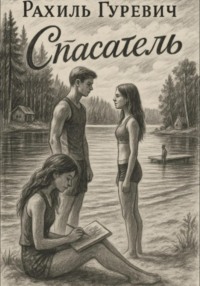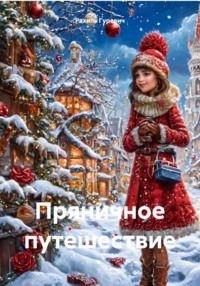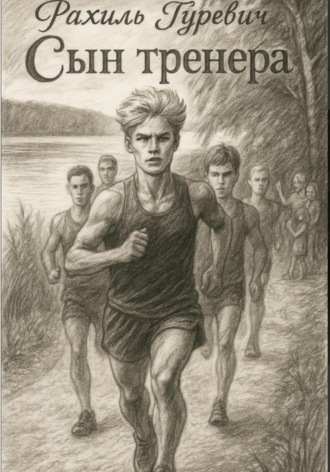
Полная версия
Сын тренера
Ещё, я так предполагаю, мама хотела уехать на новое место из-за скандала на работе. Я тогда считал себя уже большим, мне второго июля семь лет должно было исполниться. Я хорошо плавал, хорошо бегал – три года как тренировался на пятиборье и был чемпионом бассейна в группе мальчиков 95 года и моложе с большим отрывом. 25 метров я проплывал за 18 секунд. Меня мама пускала и в тир со средней группой! Однажды гильза вывалилась из старого ружьишка, меня по руке ударила – было больно, я сдуру по привычке заорал, я испугался, что мне руку прострелили – дурачок был. Мама где-то месяц меня в тир не пускала. Но потом я упросил. Гильзы вылетали иногда вбок, но я уже знал: у кого старые ружья, я с этими ребятами рядом не становился. А у некоторых ружья были новые, им родители покупали, вот рядом с такими ребятами и девчонками я и вставал для стрельбы. У таких гильзы падали чётко вниз, а не в бок. Гильзы я подбирал, играл в солдатиков. Да. Были времена. Сейчас-то все из пневматики стреляют. Но начинать и сейчас желательно с ружья.
К маме привели девочку Лизу, на год старше меня. Она и плавала классно, и бегала суперски. Не стреляла конечно, стрельба с двенадцати лет на соревнованиях. Но мама тут же ей, семилетней, вопреки правилам, винтовку лучшую выдала. Мама конечно же сказала её родителям, что надо купить винтовку, но родители отказались. Папа девочки Лизы сказал:
− У вас же бесплатная спортшкола.
Ха! Конечно у нас бесплатная школа. Естественно. И мама подтвердила. Но сказала, что с финансированием тяжко, ружья в тире старые, советские, впрочем, покупать новое ружьё не обязательно, а вот за бассейн платить обязательно.
− Сколько? – спросил папа Лизы.
Мама назвала. Тысячу рублей. Не особенно большие деньги для нулевого года, ну и не совсем маленькие.
Папа Лизы опять стал сопротивляться, говорить о бесплатной секции, я даже удивился. Все родители приходят, им скажут винтовку купить – они покупают, за бассейн платить − платят, подарки маме дарят и к Новому году, к другим праздникам. А эти… Мама объясняет, что «за воду надо платить, спортшкола закупает инвентарь, организует соревнования, праздники на воде, подарки», и всё в таком духе…
Были у нас, конечно, и те, кто не платил, и в лагерь за полстоимости ездил, но это малообеспеченные из родительского комитета, они помогали маме деньги собирать – мама сама никакие платы не собирала. (Если что, какие вопросы, то это деньги на подарки детям к соревнованиям.) Мама всегда, тех, у кого с деньгами туго, жалела, а с остальных деньги требовала. Мама по повадкам родителей сразу видела, кто действительно бедный, а кто прибедняется. В общем, папа Лизы попробовал сунуться к другим тренерам, а деньги за три месяца все в бассейне брали. Так ещё и в тир никто, кроме мамы, не соглашался пускать. И папа Лизы тогда вернулся к маме и заплатил. Помню, как пригорюнился папа Лизы, что тысячу пришлось отдать. Но мама у меня приветливая, жизнерадостная, она умеет к себе расположить, она требовательная и справедливая. Она стоит, улыбается нахмуренному папе Лизы и говорит:
− Только не уверяйте меня, что вы Лизу так плавать забесплатно научили.
Тут мама Лизы встряла и говорит:
− У нас спонсор был. Он оплачивал.
− Ну и передайте тогда своему спонсору, чтобы и на пятиборье тоже раскошелился. Не при коммунизме живём. У государства нет денег на детские спортшколы.
Потом оказалось, что папа Лизы был ей вовсе не папа, и даже не отчим, а просто так. Я недавно его встретил в Москве на любительском спринт-триатлоне. Он меня, конечно, не узнал, а я его почти сразу, у меня вообще память на лица хорошая. Идёт, такой, вдоль водохранилища в гидрокостюме, вообще не изменился. Рядом с ним – триатлетка из «элиты» – я по номеру на руке вижу. Идут, улыбаются друг другу. Голубки. Я ещё подумал: «Говорят, Бог наказывает, тех, кто бросает, а вот что-то по нему незаметно. Может, Бог не наказывает, если чужую семью бросить, не свою?»
Лиза на воде у меня выигрывала. Я очень переживал, но мама успокаивала, она говорила, что в шесть лет девочки часто сильнее мальчиков, тем более, если с двух лет в бассейне занимаются. Я стал переживать, что потерял много времени зря, что сачковал и придурялся в детстве, симулировал и завидовал детям в поликлинике. Я был зол: почему Лиза с двух лет в бассейне, а мама меня почти в четыре к Громовой отдала.
Лиза была вообще противная, всё время дразнила: я её, видишь ли, бешу, я слабак. На всех соревнованиях она получала призы, а на нужды секции деньги они не сдавали, так ещё мама Лизы возмущалась, говорила, что дома кубков ставить некуда, лучше б очки подарили для плавания, а то «и на плавании кубки, и на пятиборье – кубки» – они ещё, оказывается, и в соревнованиях по плаванию везде участвовали и в детских забегах по набережным Москвы-реки. Но случился скандал. Лиза отзанималась год, даже полтора. Зимой, в феврале, мама Лизы, под руководством понятно своего немужа, накатала на мою маму жалобу в федерацию. Мама расстроилась, ей конечно, никто ничего не сделал, показательно пожурили и всё, брали-то все тренеры деньги за три месяца – это негласное правило многих секций, катков и бассейнов. Но всё равно неприятно, мама всё переживала, что лучшую винтовку Лизе выбрала, а они её так подставили. А как мама Лизы возмущалась, когда мама выгнала их после жалобы! Но наши родители, они вечно сидят в фойе и ждут своих детей, стали маму Лизы стыдить и припомнили ей, что девочка на прошлый Новый год подарок конфетный получила – дракон пластмассовый, «Красный октябрь», укладчица номер пять, вес: семьсот пятьдесят граммов, а деньги-то не сдавала.
Какой у нас всегда был Новый год в бассейне! И соревнования какие! Волшебство! Из воды вылезаешь – Мороз со Снегуркой уже подарок тебе вручают, и синхронистки – разные фигуры на воде пытаются изобразить, их ноги на свечки в церкви похожи, из воды – хлоп! − и выстреливают. Красота! А эти – жалобу накатали!
В итоге Лиза стала у Евгеньича тренироваться, а потом и от него ушла, как заявила её мама в «крутую спортшколу». Всё детство я Лизу встречал по весне на соревнованиях «Весёлый кит» − они подготовительные перед юношеским первенством России. Лиза долго-долго побеждала, всегда смеялась надо мной, говорила, что я её бешу. А потом, лет в двенадцать, она стала рыдать после каждого заплыва. Ей не хватало до КМСа чуть-чуть: в комплексе − она плыла за одну-десять, и в её коронном кроле – она плыла за одну-три7. Какое-то время она ещё выступала, не в своих видах призёрствовала, но КМСа при мне так и не выполнила, а потом я её перестал видеть и очень радовался. Дело в том, что юношеские соревнования по плаванию у девочек начинаются в тринадцать лет, а у пацанов в пятнадцать. Я следил за юношескими соревнованиями по протоколам в сети (тогда юношеское первенство России как раз стали выкладывать в интернет). И не находил её фамилию. Но это не значит, что она точно пропала. Она могла фамилию сменить, если её удочерили; могла уйти, как и я, в триатлон. Но в триатлоне я многих девчонок знаю, вроде бы Лизы не видел. А вот в пятиборье её точно не стало, Громова всех знает, она бы рассказала. Вообще в пятиборье идут те, у кого с плаванием не сложилось. У Лизы-то в плавании всё складывалось отлично. Но девочки часто начинают тонуть в пубертате, не в смысле тонут, а в смысле, что надо корректировать технику. Не у всех получается держаться, у многих идет спад, не все продолжают бороться – скисают. Тут генетика важна. Кому-то и бесполезно бороться, а кому-то просто не хватает смирения перетерпеть пубертат.
Я почему так подробно про Лизу − предположу, что, кроме разных неприятных воспоминаний детства и первого замужества, мама ухватилась ещё за вариант с Никником из-за Лизиной жалобы. После переезда, уже в Мирошеве, мама периодически вспоминала Лизу и её семью, и даже разузнала, что не-папа-и-не-отчим Лизы бросил их вскорости. Но пока не бросил, он тренировал Лизу зверски. Он сам, по слухам (все слухи из Москвы маме передавала Громова) в прошлом был спортсмен-неудачник (вроде как и я теперь), вот и уцепился за Лизу. А чужая она или своя − не особо важно. Я Никнику тоже чужой, а он меня очень любил (и любит!), очень переживает из-за моих поражений и искренне радуется победам. Мой родной папа, Костик, не понимает: как так Никник мог меня полюбить. А я прекрасно понимаю. Две дочери от первого брака у Никника выросли и разъехались. Та дочка, которая перебралась в Подмосковье, у той родился мальчик, Ваня. Он приезжал к нам в Мирошев раз в год на осенние каникулы и всегда дулся: ходил недовольный, обиженный. Я его понимаю, я бы тоже обижался, ведь квартира Никника и другое имущество, если не дай бог что, наследует мама. Вторая дочка Никника, которая вышла замуж за богатого и поселилась в посёлке рядом с Мирошевым, родила двух девочек, двух внучек. И мама моя потом родила Никнику Алёнку. Получалось, что я один – настоящий мужик. Но Никник не унывал. Алёна у нас – боевая, похлеще пацана. Никник уже решил, что она в МВД пойдёт, когда школу закончит. Уж МВД Никник Алёнке организует.
4. Переезд
И ещё была такая девчонка Лена в Москве на пятиборье. Её отец тоже мою маму доставал. Как ехать летом в лагерь, он к ней пристаёт: «Кто будет отвечать за мою дочку, если вдруг что». «А что?» – переспрашивает мама. «Вы должны дать мне письменные гарантии!» В общем, папа юрист, проныра, всё докапывается до всего, запугивает, но не в прямую – дочку-то любит. Правда, у родителей детей-спортсменов любовь странная. Этот, Ленка, рассказала, в два года бросил её на глубину. Так и научил плавать. У неё шок до сих пор от её первых «заплывов» на дно. А какие у мамы гарантии? Да никаких. Все лагеря организовывались частным образом. Мама договаривалась с турбазой, лагерем, домом отдыха, гостиницей – нам главное бассейн чтоб был. Мама покупала билеты – брала за билеты как за взрослые, а сама платила по детским тарифам. Небольшой такой навар. Маме ж и медкнижку приходилось делать. Никто не возражал. Но папа юрист был не таков – он докопался. Жаловаться он никуда не стал. Но мама возмущалась. Если хочешь, чтобы к ребёнку твоему хорошо относились, надо с тренером хорошо общаться, без наездов и угроз. И мама психанула – её достали требования родителей. Может с ней директор спортшколы какие беседы проводил, может ещё кто из родителей докапывался – я не знаю. Сейчас-то легко группу набрать – детей много, а тогда с мамы требовали комплектацию групп, заставляли даже по школам ходить. Меньше тогда было детей и, самое главное, на порядок меньше было пусть не обеспеченных родителей, но хотя бы не нищих с затравленным напуганным взглядом. Вот и приходилось терпеть пап-юристов и не-пап-недочемпионов.
Бабушка, понятное дело, маму не смогла уговорить остаться, мама вышла замуж за Николая Николаевича и переехала в Мирошев. Там я и пошёл в первый класс.
Сейчас-то Мирошев растянулся вширь и вдаль, приезжие теряются, тычутся в свои джи-пи-эс-навигаторы и ругаются. Приезжих с каждым годом всё больше – земли исконно русские древние, Клязьма – рядом, Золотое Кольцо – сравнительно недалеко. Вот и едут туристы. Кремль, тюрьма старинная, до сих пор действующая, пересылочная, музей, даже три музея, лавка живописи, колледжи декоративно-прикладных поделок: завод игрушек у нас закрыт, а колледжи при нём по-прежнему функционируют. Театр у нас есть, и второй театр − любительский. Есть ещё наркоманско-маргинальный район у Игольного завода, но я тогда о нём не знал, это от нас в стороне.
Сейчас в Мирошев включили всё, что можно и нельзя, все дальние посёлки и деревни. А когда я переехал – был просто маленький Мирошев. За ним – маленький Военный городок, там огромные спорткомплексы, заброшенный стадион и старинная дозорная башня перед стадионом на холме. Стены башни – в безумном шизофреническом граффити. Внутри башни – очень хорошая аптека, там лекарства делают на заказ. Когда мама родила Алёнку, я часто в эту аптеку ходил. Такие там микстуры от кашля хорошие, и недорогие совсем, и Алёнка с удовольствием глотала, не плевалась.
Всё тогда на новом месте, в первом году нового века, было не так как в Москве. В Мирошеве много старых зданий, и они никакие не памятники и музеи, и никто их не сносит, если только сами не обвалятся. В старых деревянных зданиях – конторы или магазины, а в некоторых до сих пор люди живут. Раньше на совесть строили, а в Москве сейчас – одна душная синтетика, свободный хлор выделяет и травит людей. Военный городок стоял рядом с Мирошевым − военные остались, но сам городок был рассекречен, ликвидирован, расформирован, по сути стал новым. В Военном городке и жил Никник. Военный городок расформировали давно, но школа там по-прежнему лучшая была – гимназия номер один, и бассейн там же шикарный, точнее – дворец водных видов спорта, и ещё, неподалёку, главный дворец спорта − гимнастика и волейбол. В самом Мирошеве была школа искусств и Дом культуры. Но Военный городок был престижнее Мирошева. Мы жили в доме на берегу маленькой речки Иглы. Выходишь из подъезда, и сразу – волейбольная площадка, пляж, песочек.
У Никника была ещё одна квартира, в центре Мирошева, напротив Кремля. И там можно было жить. Мама любила зимой в той квартире быть. Она любовалась заснеженным Кремлём, площадью перед ним, памятником преподобного Косьмы, основателя нашего города, по центру площади. Мама, что называется, дорвалась. И до просторных комнат, и до церквей, которых в Кремле было аж три. Огромные старые храмы, и нет в них толпы как в Москве, и люди приветливые – это мама так всем отчитывалась по телефону старым знакомым, интересовавшимся о «житии-бытии».
На меня, семилетнего, Мирошев произвёл неблагоприятное впечатление. Я загрустил, затосковал. Нет мигающих вывесок, нет бесплатных газет в почтовых ящиках. Растяжки на проспекте Красной Армии (справа от проспекта − наш дом, слева – Кремль) случались только перед выборами, рекламные щиты – тоже. В детстве я рекламу уважал, научился читать по рекламным плакатам и листовкам. И бесплатные газеты я обожал читать, по телевизору смотреть рекламные ролики. Не было в Мирошеве и ни одного супермаркета. Скандал! У нас в Москве, мне три года было, когда первый супермаркет в районе открылся. Праздник был до ночи, сцену поставили, «Иванушки» выступали, кока-колу бесплатно раздавали, за дисконтными картами выстроилась очередь. Я был в восторге, мы с бабушкой ходили. Весь наш район как вымер, все пошли на открытие, всем хотелось халявы. А в Мирошеве– прилавки, на допотопных весах всё взвешивают, обсчитывают. Мама умиляется, руками, как заводная игрушка, всплёскивает: «Ах-ах! Как в детстве! Ох-ох! Какой творог бесподобный! А какое мя-со-о…» Тьфу! Как будто в Москве мясо плохое. Да и плохое если, что мама много ест? Мама вообще мало ест.
Я был зол, недоволен. Ещё Никник стал мне рассказывать, как здорово ходить в походы. Он спросил меня:
− Стёпа! Обязательно с тобой осенью на каникулах сходим в поход в наши Мирошевские леса. Это бесподобно! Ты хочешь? Будем жить с тобой в палатке, варить кашу на костре и уху. Ты хочешь?
А я ответил:
− Если палатку поставить в комнате, то хочу.
Никник был в Мирошеве человеком известным, в полковничьем звании, член общественной палаты, совета старейшин, совета ветеранов. Ещё он был председателем собрания почётных граждан. Обязанности его сводились в основном к празднику Победы. Он надевал парадный мундир, объезжал ветеранов, поздравлял, дарил юбилейные медали (город каждый день чеканил что-нибудь юбилейное), продуктами, почётными грамотами и словами. Никник очень хорошо умел говорить. Он был в армии по идеологии, тем, кто убеждает и вдохновляет состав − замполитом. Никник очень гордился, что чэпэ в его военной части из-за «псих-ля-ля» случались крайне редко. Он рассказывал, что «солдатик» часто на грани, да и не только солдатик. Никник долго служил в Забайкалье, там сопки, там Монголия недалеко. И надо проводить огромную работу по поддержанию силы духа. У Никника была целая методика, целая программа, он сам лично и музыку подбирал для часов отдыха, всех певцов, и завывающих, и попсовых, считал чуть ли не членами своей семьи, называл «наша творческая интеллигенция». Больше всех он любил «лирического тенора» Белова, «для солдатиков» ставил патриотических Лещенко и Кобзона, а позже – попсу про американ-боев. Никник говорил:
− Массам нужно массовое. Массам главное не заморачиваться.
Никник воевал в Первую Чеченскую. Как Никник оказался в Военном городке? А просто на пенсию вышел. Он отсюда родом, из недалёкой деревни. И работал, когда мы к нему переехали, в тире. Дворец водных видов спорта − целый комплекс с залами и тиром. Директором стрелкового клуба и был Никник, а его друг бы директором всего дворца. Вне работы Никник никогда не стрелял, оружие дома не хранил, говорил не по-солдафонски, без шуточек и прибауточек, любил поэзию. У него хороший слух, приятный голос. По праздникам он любил петь про Хасбулата удалого и саклю; про звёзды, которые вряд ли нас примут, если что-то мы забыли; про границу, на которой тучи ходят хмуро; про злую осень, которая шумела в поле и кидалась листвой; ну и ещё разные патриотические песни: про Москву, которая за нами, про священные слова, день Бородина и что мы это всё будем помнить. Эту песню все знают, её последней на параде на Красной площади оркестр играет, когда мимо Мавзолея идёт. Эх… Парад… Мавзолей теперь полотном загородили, это зря. Мы все переживаем. У меня и дядья, и дедушка с бабушкой, и Никник − все за Советский Союз. Мама обычно отмалчивается. Она говорит, что так мучилась от нищеты и дефицита в детстве, что не знает за что она: за то, что сейчас или за Союз. Бабушка возражает: в Союзе многодетным давали квартиру, талоны на распродажи. А мама морщится, вспоминает, как она в тапочках в школу ходила – туфель у неё не было. Но бабушка возражает: тапочки были похожи на «лодочки», просто войлочные, на распродажах не было туфель тридцать четвёртого размера; зато, продожает бабушка, со спортивной обувью проблем не было, в «детском мире» кед стояло навалом. Бабушка у нас спорщица. В принципе я маме доверяю больше, чем бабушке, но я много читаю книг, именно советских, с пожелтевшими страницами и обтрёпанными обложками – там хорошая жизнь. Мама говорит, что всё – враньё. А я спорю. Я ей говорю, повторяя за бабушкой: она же бесплатно тренировалась, в интернате жила бесплатно, её там одели. А мама говорит, что это просто из жалости кто-то на свои деньги ей куртку купил, чтобы она в телогрейке за четырнадцать-пятьдесят не позорилась. А я маме говорю, что сейчас даже с чемпионов на детских соревнованиях взнос берут. И тогда мама отмалчивается, она не любит всех этих разговоров о политике, особенно после того, как дядю Серого в милицию с митинга забрали. Потом он в суд ходил, и ему штраф оплатить сказали – приговор такой вынесли. А дядя Серый ничего такого не делал, просто пришёл побазарить к памятнику Пушкина. Их автосервис тогда чиновники себе захватили, и заставили дядю бумаги подписать. Дядя Серый всё тихо-мирно подписал и бизнеса лишился. Обидно же! Вот и пошёл на митинг. Если б он знал, что его повяжут, да он бы никогда в жизни не пошёл. Когда с дядей Серым это случилось, Никник стал вызванивать московских знакомых. Но все были не при делах, не при должностях, все на пенсии, и, как и сам Никник, в разных муниципальных собраниях и общественных палатах местного разлива заседали. И стихи тоже писали ко Дню победы, точь-в-точь как Никник. Никиник им звонит по делу, а они всё свои стихи норовят ему прочитать. А может просто никто не захотел помогать. Но я думаю, просто не могли: отслужили своё, отвоевали, намахались шашками сполна, их время прошло.
Лето переезда выдалось достаточно нервным. Мой дедушка подпортил ощущение праздника, в котором хотела находиться мама. Он обиделся. Что на свадьбу его не позвали. Но на свадьбе было совсем мало людей: Громова от мамы и директор дворца спорта от Никника. Даже бабушка не приехала, она не хотела подводить работодателя и терять смены. А дедушка обиделся. Не сказать ему не могли – в нашей семье не принято ничего скрывать. Дедушка – отдельная песня. Он не в себе. И не после перенесённого инсульта, а с давних пор. Дедушка – физик. У меня видно в дедушку способности к физике. Но что-то с дедушкой случилось. Он свихнулся. С работы ушёл и жил на даче – резал из дерева скульптуры. А у меня ещё был прадедушка. Мамин дед. Он был жутко крутой, тоже военный. Он прошёл всю войну в пехоте и не получил ни одной царапины – случай уникальный. Деда пускали взапуски – так в пехоте называют солдата, который бежит зайцем через обстреливаемое поле и обнаруживает огневые точки противника. Прадедушка рассказывал маме, что «зайцу» важно чутьё и быстро менять траекторию. Прадедушка бегал так: три шага бежит, падает, лежит; когда огонь стихает, вскакивает и снова бежит, возвращается к своим − наши фигачат прицельным огнём по обнаруженным точкам противника. После войны прадедушке предложили работать в органах госбезопасности. Он женился на докторе-терапевте (моей прабабушке) и всю жизнь работал в органах. Чем он занимался, никто не знает – чем-то секретным. И когда прадедушка умер, а дедушка восстановился после инсульта, он переехал к тёще – только в её квартире он чувствовал себя в безопасности. Дедушка был уверен, что его отравили, за ним охотятся. Он оббил стены металлическими листами, не пользовался мобильником и писал какие-то научные работы. Говорят «шапочка из фольги» − это про моего дедушку. Я про него вспомнил просто по тому, что он обиделся, а так я его и не помню почти, просто вспомнилось.
Я тосковал в августовском Мирошеве перед первым классом. Книги, которые мне дарил мамин родительский комитет на пятиборье, давно были прочитаны. Я думал: кто же теперь будет покупать мне книги? Мама любила детские книжки-картонки с разными прибамбасами, для мамы главное – иллюстрации. А я хотел, я требовал от неё, взрослые книги. Никник отвёл меня в библиотеку, он всё для меня делал, и мы с ним вместе стали книги выбирать. Я брезговал, что «Маугли» или «Таинственный остров» такие замусоленные. Но Никник уверил, что станет покупать мне новые книги через интернет-магазин, и ещё сказал, что библиотечные книги попадаются очень ценные, такие, которых не купить.
После первого посещения библиотеки уныние моё быстро улетучилось. Я и не знал, что книги можно брать на время, не слыхивал о библиотеках. А тут – всё здание, в котором когда-то была школа, всё сплошь – в стеллажах с книгами и дверями с загадочным словом «архив». До первого сентября я провалился в книги. В классе тоже поначалу всё было нормально. Я блистал в учёбе. Вот только отвечал я невнятно, и учительница меня останавливала, просила не тараторить, не бормотать. Я не понимал, не чувствовал, что тараторю. Но все смеялись, передразнивали, я обижался и дрался.
В гимназии собирали денег помногу. Форма продавалась в магазине неподалёку. А на всё остальное сдавали деньги. На подарки учителям, на учебники и тетради, на ремонт класса и школы, на озеленение, то есть на дворника-садовника: школьный двор утопал в цветах. Мама была в шоке. Но Николай Николаевич за всё платил. Во-первых, маме нельзя было волноваться, она была беременна, во-вторых, Николай Николаевич сказал, что если не платить, то можно напороться на разные мелкие мщения, а в-третьих, у Николая Николаевича деньги водились приличные. Ну, пенсия большая, военная, выслуга лет и всё такое… Но жил он явно не на пенсию. Однажды я спросил его об этом. Николай Николаевич долго, в ярких, в ярчайших, красках описывал, как тяжело и бедно жилось военным после развала Союза, как в офицерском пайке выдавали маргарин, какао и печенье, и это был праздник: в день пайка его первая жена с дочками топили маргарин, добавляли какао, крошили в эту смесь печенье, охлаждали на морозе, и получалось очень вкусная конфета-полено. Никник рассказывал, как младшая дочь шлялась неприкаянная по Военному городку (не по Забайкальскому, а какому-то уже Сибирскому военному городку), пила с двенадцати лет и слушала разные блатные песни про владимирский централ и дым сигарет с ментолом. А сигарет не было, даже «Примы»! И Никник бросил курить, но от стресса стал избивать солдат. И никто из коллег и начальства за солдат не заступался, Никник молится теперь за них (он уверяет, что ни одного не покалечил, просто были синяки), просит прощения у Господа за то время и за срывы… Все деревни рядом с военной частью опустели, сельпо закрылись, столовая снабжалась с перебоями, мясо привозили почему-то верблюжье подтухшее, сигарет и выпивки было негде купить. Никника снарядили в город на древнем ЗИЛе-«Студебекере». И он стал мотаться в город, организовывал в военной части передвижной магазин втридорога. Никник между всеми этими ужасами о сбое в снабжении упоминал вскользь, что постепенно расформировывались многие части, и множество собственности ушло, испарилось в неизвестном направлении…
К бассейну я не сразу привык, бассейн был глубокий и длинный. Где-то месяц перестраивался с короткой воды на длинную. Маму в спорткомплексе ждали, отнеслись к ней очень уважительно. У мамы тогда высшей категории ещё не было, но всё равно – столичный тренер же. А через год маме высшую категорию присвоили, девочка её, из первой самой группы, победила на юниорской России. Отличий от столичных порядков практически не было. Кроме того, что в Мирошеве, в отличие от Москвы, в пловцы никто валом не валил, девочек не было вовсе. Серые необразованные мирошевцы боялись, видишь ли, что у девочек будут широкие плечи. Мама была просто в шоке: