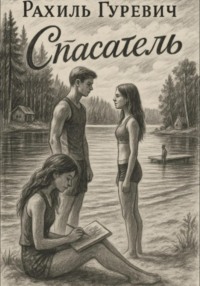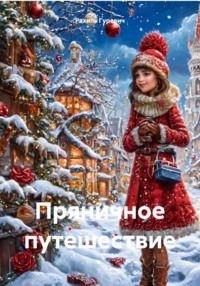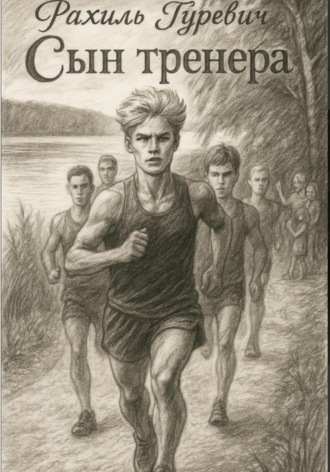
Полная версия
Сын тренера

Рахиль Гуревич
Сын тренера
Пролог.Фиаско и надежды
Май. Я выбежал из лесопарка на дорогу, ведущую к домам. Я заканчивал утреннюю пробежку. Школьник на дороге остановил меня, округлил глаза, поправил тяжеленный рюкзак за плечами, весь встряхнулся, указал большим пальцем себе за спину, крикнул:
− Там мужик подвис и грохнулся.
Я побежал дальше. На асфальте лежал человек. На боку. Изо рта − кровь. Вокруг – люди, зеваки.
− Что с ним?
− Упал. Лежит.
− Надо поднять!
− Нет! – запротестовала грозная дама, для убедительности приподняла сумку на колёсиках, ударила ей об асфальт. Типическая такая русская женщина, из тех, которые у Некрасова и в огонь и в воду: – Нет, нет и нет! Трогать нельзя. Вдруг инсульт, вдруг ножевое ранение в живот. «Скорую» вызвали.
− Где вы видите ранение в живот? – спросил я ошарашено. Я ещё не отдышался, приходил в себя от резкой остановки. Я всегда заканчиваю пробежку по 4-101.
− Он говорит, но заплетается, бормочет что-то, я разобрал, что мобильник в кармане, достал и позвонил по первому телефону, сын уже идёт,− сказал крупный мужчина. Крупного я постоянно встречал в лесопарке. Он такой праздношатающийся. Всегда со всеми общается. И со мной пытался.
− По-моему, надо поднять. Застудит ещё что-нибудь. У меня отец на «Скорой» работает, − я набрал номер отца.
− У него отец на «скорой», отец на «скорой», – раздалось уважительное эхо.
− Но «скорую» вызвали, молодой человек! − протестовала некрасовская баба.
Я поднял руку, чтобы не мешали говорить – все замолчали.
− Пап!
− Ну?
− Тут мужчина лежит.
− Где?
− При входе в лесопарк.
− Пьяный?
− Нет.
− В сознании?
− Да.
− Упал. Я видел. Шёл и упал, − подсказывали мне все.
Я повторил «показания очевидцев».
− Подними, усади, − сказал папа. – Если сможет идти, до лавки доведи. И «скорую» встречайте. Они запутаются, куда ехать. Они в лесу всегда путаются.
− Сказал поднимать, − я отключил телефон.
Стали поднимать пострадавшего. Я открыл сумочку на поясе, достал влажные салфетки – у человека всё лицо было в крови, кровь капала на ветровку. Сначала подумал – рассёк лицо, но нет: носом ударился, кровь из носа. Видно спазм у человека, внутричерепное давление, вот и закружилась голова… Может и микроинсульт. У моего дедушки три инсульта, и несколько микро, при микро он также падал и быстро вставал. Весной, если вдруг внезапная жара, мой дед плохо себя чувствует. Лежит целый день, отдыхает.
Довели пострадавшего до скамейки − метров сорок и всё в гору. Я всё это время промакивал деду лицо. Доставал всё новые и новые салфетки. Усадили на лавку. Кто-то пошёл на улицу – «скорую» встречать.
Дед на лавке окончательно пришёл в себя − принялся благодарить, сам стал салфетку держать около лица. Худой он. Рубашка светлая, брюки. Жилистый такой пожилой мужчина, и не скажешь, что старик.
Подошла фельдшер, раскрыла чемоданчик, стала наполнять шприц, параллельно задавать вопросы: что произошло, что болит… Пострадавший отвечает: шёл, упал, очнулся – лежу. Я эту фельдшерицу знаю, мне папа рассказывал о ней. Симпатичная, стрижка у неё такая − полголовы сбрито. Папа говорит, она дерзкая, отшивает только так водил – водители к ней постоянно подкатывают. Папа на кардиологической «скорой», на самой крутой. Есть ещё гинекологическая на нашей подстанции, там денег дают, чтобы в нужный роддом отвезли или хорошую больницу2. На детской тоже врачам подбрасывют – на детей никогда ничего не жалеют. Пока все эти проверки на подстанциях не начались, папа вообще хорошо зарабатывал. Сейчас хуже стало. Жалобы в интернет строчат все, кому не лень. Некоторых фельдшеров показательно поувольняли, врачей не тронули. Взяток теперь все боятся. Но жить-то все хотят. Бесплатная медицина сами знаете какая. На самом деле бесплатная она условно. Вот люди и дают, чтобы получше укол, кардиограмма, не выходя из квартиры – всё равно это дешевле на порядок, чем платно врача вызывать.
Тут как раз сын пострадавшего подошёл:
− Папа! Ну как же так!
− Да вот вышел, − оправдывался «папа» нетвёрдым слабым голосом. – Иду, голова закружилась, ноги подкосились − шлёпнулся.
Сын расстроено качал головой: «Папа, папа». У сына наверняка планы, а теперь – отец заболел. Надо врача, надо уход. Это всё нервы, время, да и расходы…
Я собрал все кровавые салфетки в пакетик. Сын меня благодарил.
− Не стоит, − сказал я, – благодарности. − Мне, ей богу, не сложно.
Потом, недели через две, у меня как раз сессия началась, я встретил в лесопарке − отца и сына, но они меня не узнали, хоть я прямо мимо них пробежал. А больше я их не видел. На дачу, наверное, вывезли «папу».
Множество раз этим летом в круизе по Волге я вспоминал человека на асфальте, в крови, с покарябанным носом. Я и осенью, когда учёба началась, тоже его вспоминал. Но летом − постоянно. В круизе, если выходной, скучновато. Отдыхающие с обслугой не очень общаются − вот я всё и думаю… Смотрю на Волгу, на берег, на леса и пристани, вспоминаю Горького «Детство», и тепло на сердце. Под конец круиза мне стало казаться, что я и сам лежу на асфальте в крови. Не в прямом смысле, что прям ударился и лежу, и кровь из носа, «юшка». А в переносном смысле, не знаю, как объяснить. Ну вроде меня так же ударило, шмякнуло, всю жизнь меня так шмякает, впечатывает, прогибает. В самый ответственный момент я проигрываю, прихожу в себя, пытаюсь бороться − следуют мелкие победы до следующего фиаско. Допустим, тот дедок, не пошёл в тот день гулять − почувствовал себя плохо (что-то голова тяжёлая) и не пошёл. И спазма бы не случилось или микрогематомы! Переждал бы дома. Наверняка за завтраком чувствовал себя не в своей тарелке. Ответственный старик: режим, дисциплина, день накануне запланировал, ведь гулять полезно. Не менять же план из-за лёгкого недомогания. Вот и результат: упал, разбился, лежит. Проиграл схватку с атмосферным давлением и магнитной бурей. На этот раз не катастрофично. Выводы сделает. В следующий раз останется дома, пусть даже в три раза лучше погода будет и листочки ещё ярче станут бушевать незапылённым девственным цветом.
Так вот и я. Выводы после делаю. Но после драки кулаками не машут. Я проиграл. Только и остаётся мне, что вспоминать.
Часть первая. Фиаско и надежды
1. Развод
Я родился в Москве, в спальном районе около окружной дороги. Никогда и предположить не мог, что придётся уехать. Родители развелись, когда мне был год. Я с мамой жил. В «двушке», переделанной в «трёшку». То есть кухня у нас была третьей комнатой, а в прихожей, значит, оказалась кухня. Плита, холодильник, столик, посуда. Куртки, дублёнки, обувь? Вещи можно в комнате держать, даже обувь, просто её мыть надо, когда с улицы приходишь. Оделся в «комнате» и пошёл на «кухню». Открыл входную дверь: до свидания! Мы с мамой жили в бывшей «кухне», бабушка и дядья, Алексей и Серый − в двух других комнатах. И нормально жили! Но мама! Надо знать мою маму. Она стала искать себе нового мужа. Зачем ей это надо было? Не знаю. И где искала-то? Нет, чтобы у себя на работе, как Инна Сергеевна с абонементной группы. Инна Сергеевна вышла замуж за отца одной девочки. У девочки мама умерла, отец девочки женился на Инне Сергеевне. И все довольны. Моя же мама не стала искать нового мужа на работе. У мамы на работе была первая любовь − Евгеньич и что-то с ним не сложилось. И с папой моим не сложилось. Мама полезла в интернет, стала проводить время на православных сайтах. Тогда интернет был не то, чтобы редкостью, но не у всех ещё был, и жутко дорогой. Мои дядья всё оплачивали, и компьютер был их, тоже дорогой.
Помню, когда конфетно-букетный период у мамы с интернет-знакомцем закончился и встал вопрос о замужестве и переезде, мама поздно вечером сидела в нашей «комнате» и плакала. Бабушка уговаривала не уезжать. Они думали, что я сплю, а я не спал: я подглядывал и подслушивал.
− Что мы, Анечка, плохо сейчас живём?
− Да разве дело в этом? – плакала мама. – Я, когда в спортинтернат переселилась, так в телогрейке ходила. Дело не в этом.
− А в чём?
− Дело в перспективе. Тогда я надеялась, что будет лучше. А сейчас я ни на что не надеюсь. Работа-дом. Дом-работа.
− Да, − тормозила бабушка. – Помню. Купили тебе в дачном сельпо телогрейку, но приличную, с воротничком отложным, черненькую. Десять рублей, сорок копеек стоила – очень недорого.
− Нет. Четырнадцать-пятьдесят, − поправила мама. – Телогрейка и ещё резиновые сапоги – тринадцать-пятьдесят с украшением-шнуровкой. Продавцы смеялись, когда я эти сапоги цвета детской неожиданности брала.
− Зато они вечные. Я в них сейчас на даче шлёпаю – вообще подошва не стёсана, − бабушка упиралась, она вообще спорщица.
− Мама! Мама! Зачем резиновым сапогам шнурки?! Грёбаный совок. Меня в интернате все жалели. Меня там жалели как какую-нибудь детдомовку, одели и обеспечили всем.
− Так потому что совок и одели.
− Тогда совка уже почти не было, − отмахнулась мама и всхлипнула. − Бедно жили, но тогда это было не главное. Я всегда знала: могу приехать домой или на дачу, будем с вами чай на кухне пить с пирогом. А теперь?
− А что, Анечка, теперь? Разве что-то изменилось? Разве мы тебе и Стёпочке не рады? (Стёпа – это меня так звать.) Очень рады!
− Изменилось, − плакала мама. – Тогда мы были детьми. А сейчас тесновато мы живём. У Николая Николаевича – огромная квартира, даже две. В центре города и по соседству – в Военном городке. Он и о работе моей договорился. Военный городок с шикарным дворцом водных видов спорта. Длинная вода.
− Ох! Длинная вода3! – всплёскивала руками бабушка. – Это как в «Олимпийском»?
− Скорее как в Олимпийской деревне, − нервничала мама. − И потом – я хочу ещё ребёнка. Имею я право хотеть ещё ребёнка?
− Да куда ж, Анечка, ещё ребёнка?
− Мама! Но у тебя-то нас трое. И я хочу троих!
− Так время, Анечка, другое было. Сейчас никто твоих детей бесплатно содержать в интернате не будет, учить-тренировать тоже.
− Ну почему же? Если будут чемпионы, тоже будут на дотации. Стёпа обязательно будет чемпионом.
− Но ты-то не стала чемпионкой. И Стёпа – когда это будет, вилами по воде.
− Как же вилами по воде? Все знают, что Стёпа Бортов – чемпион бассейна.
Бортов – это мой папа. Бортов и моя фамилия. А мама свою фамилию не меняла – как чувствовала, что с папой разведётся. А вот Николая Николаевича фамилию взяла, чтоб уж точно без разводов. Я не знаю доподлинно, почему «разбежались» мои родители, мама не любит об этом говорить. Папа мне тоже не хочет объяснять, отмахивается общими словами – я-то теперь с папой живу. По обрывкам фраз, по подслушанным в детстве разговорам, я составил такое мнение. Моя вторая бабушка (её сейчас нет в живых) маму не любила и всё время попрекала, что она живёт с ребёнком, то есть со мной, её внуком, на её жилплощади. А больше всего моя вторая бабушка, царство ей небесное, нервничала из-за того, что меня прописали на её жилплощадь, потому что, когда в квартире прописан ребёнок, это усложняет юридические процедуры при купле-продаже. Кому моя другая бабушка собиралась продавать квартиру и собиралась ли вообще, доподлинно неизвестно. Но знаю, что было пять судов при разводе родителей. Бабушка и папа доказывали, что я – не их внук и сын. Была проведена генетическая экспертиза. Мне, годовалому, кололи десять пальцев на руках и брали кровь. Мама говорит, что к десятому пальцу я даже и не плакал – так навизжался на предыдущих девяти, что охрип, осип, а на следующий день заболел. И у папы взяли кровь. Стоила экспертиза – восемьсот долларов, это ещё в полстоимости, потому что по суду. Для 96 года − огромные деньги. Если бы я оказался не папин, меня бы выписали из квартиры. Но экспертиза показала вероятность 99, 9 процента, что я папин сын, и меня не выписали. Я и до сих пор у папы зарегистрирован, в восьмом классе, переселился обратно в Москву, и очень доволен. У меня с родным папой связь кармическая.
Квартирный вопрос в нашей семье всегда стоял остро. Дядья хорошо зарабатывали, они работали в автосервисе, но на квартиру, даже самую завалящую, не хватало категорически. А вот, когда дедушку первый инсульт накрыл, дядья ему оплатили очень дорогое лечение – больше ста тысяч (это в самом начале нулевых!), то есть на лечение, авто и поддержку денег хватало. И у одного, и у второго дяди семьи были ненастоящие, такие полусемьи: женщины-одиночки с детьми и квартирами. Дядья ездили к ним, иногда ночевали, помогали с детьми, содержали, но не женились, всё-таки жили они с нами. У одного дяди, у Алексея, подруга была завёрнута на здоровом образе жизни, он стал есть одни сухари как подвижник, а ещё нырять в прорубь. В лесопарке рядом с домом есть родник, и рядом – прудик, туда родник вытекает. В этом прудике – лестница как в бассейне. Зимой – прорубь. Однажды, мне четыре года было, дядя Алексей меня в прорубь окунул. Мама перепугалась, но я даже не заболел. Я получил «боевое крещение». Дядя Алексей – худой-худой, и волосы выпадать стали, но он всё равно красивый. У нас в семье все красивые: мама, дядья, я тоже. Я на маму похож, а ростом – в папу, мама у меня маленького роста, папа − высокий.
Родители рядом друг от друга жили. Мама – в шестнадцатиэтажке, папа – в двадцатидвух, серия П-44, очень престижная серия. Но друг друга не знали. А познакомились, когда впервые дедушке плохо стало. У него случился гипертонический криз, он рухнул и его стало тошнить. Бабушка подумала, что инфаркт, позвонила в «скорую» и сказала свой «доморощенный» диагноз. Папа тогда только-только на кардиологическую машину перевёлся, а до этого на обычной «скорой» работал. Ему помогли на «кардиологию» перевестись, по блату. Он очень старался себя зарекомендовать, очень помог дедушке тогда. И больницу выбрал хорошую, в другом округе. На «скорой» можно ехать одному родственнику. Бабушка не поехала. И дедушку мама сопровождала. Через год родители мои поженились.
2. Мама
Вернёмся к подслушанному мной разговору. Значит – мне шесть лет, я вроде бы сплю, на самом деле притворяюсь, и дико злюсь, когда слышу, что кроме меня ещё детей хотят. Бабушка уговаривает маму, что всё хорошо, и надо остаться в Москве, не уезжать ни в какой город Мирошев, не рожать никаких детей и не выходить замуж за человека на двадцать лет старше. А мама всё объясняет, доказывает, плачет:
− Что я получаю в бассейне? Двенадцать тысяч!
− Но это много! – спорит бабушка. – Многие половину от этого получают. Ещё же алименты у тебя.
Надо сказать, что мама не писала заявление на алименты, не требовала их с папы. Папа по собственной инициативе переводил деньги маме ежемесячно почтовым переводом. Почему не в руки передавал? А чтобы для суда, если мама вдруг взбрыкнёт и решит нервы потрепать, отомстить и на алименты заявить. А папа тогда документ, квитанцию предъявит: деньги перечислялись.
Когда я с мамой приходил на почту, я видел, как украдкой ухмылялась тётенька в окошке с бейджиком на груди. Тогда я не понимал, почему. Теперь понятно: папа приходил в это же отделение, оформлял перевод маме у этой же тётеньки, почта брала свои проценты, выдавала папе чек, а маме посылала извещение. Мама являлась на ту же самую почту, забирала деньги. Абсурд. Но вполне объяснимый. Абсурда в нашей жизни − выше крыши, накроет с головой, если близко к сердцу принимать.
В то время, до переезда из Москвы в Мирошев, я всегда ждал начала месяца, мама получала перевод от папы и покупала мне что-нибудь вкусное, иногда даже мороженое, но мороженое очень редко. Когда лет в двенадцать, я заикнулся, что хочу, чтобы мама отдавала мне часть папиных денег на карманные расходы, мама ударила меня, хлестнула по лицу и сказала:
− Эгоист, весь в отца.
Что произошло между родителями? Почему они разошлись. Моя вторая бабушка приложила к этому руку, но было ещё что-то. И сейчас я знаю, что, а в детстве не знал.
Бабушка всё уговаривала маму:
− Останься Анечка. Я тоже зарабатываю. (Бабушка работала в двух банках уборщицей и получала тысяч тридцать плюс пенсия.) Проживём.
Но мама рыдала и рыдала, доказывала бабушке:
− Мама! Мама! Да пойми ты! Все шесть лет здесь по двору, по парку, со Стёпой гуляю. И все знакомые вокруг. Помнят нас по старым временам. Прошло столько лет, целая жизнь, я и братья состарились. А я, когда здороваюсь и общаюсь с соседями и бывшими одноклассниками, вижу, чувствую, что они всё помнят. Понимаешь − всё!
− И что – всё? – пугалась бабушка. – Что всё, Анечка? Мы не убивали-не крали, никого не обижали, жили тихо.
− Вот именно, что тихо, − гнусавила и сморкалась мама. – Малоимущие. Многодетные! В седьмом классе на уроке труда пекли пирожные и печенье. Бригада распределяла продукты: кому что принести из дома. Мне говорили: муку принеси. Так ты мне даже баночку муки не давала. Сколько тогда пачка муки стоила?
− Тридцать девять копеек – два кило, кажется, − убаюкивала маму бабушка.
− Как мне было стыдно! А платье школьное? До середины икры платье. Все девчонки – по колено, а я? На вырост, всё на вырост. Всё детство на вырост! Ну да. Я же одна девочка. Кто что отдаст, то и сойдёт. Надо было на мне экономить, чтобы братьям побольше купить. Нет, чтобы три девочки, или три мальчика. А Стёпа родился? Коляску мне Константин не купил. Обещал, а не купил. (Константин – это мой папа.)
− Анечка! – увещевала бабушка. – Это я виновата. Я сказала: на первое время коляска есть. Нам же отдали.
− Что нам отдали? Коляску восьмидесятых?
− Семидесятых! Немецкую! Зато она устойчивая, и рама из настоящей стали, рессоры на ремешках кожаных. Качественная.
− Мама! Я всё понимаю. Все знакомые как назло в это приблизительно время родили и с «пег-перего» воображали. Я ловила на себе взгляды бывших одноклассниц: малоимущими были, такими и остались. Вот тебе и качественная. Старая облезлая коляска.
− Немецкая, и колёса почти новые, − настаивала бабушка. − Колёса прежние хозяева из какого-то там бург-берга выписали, с тамошнего завода.
Видно, коляска навеивала бабушке воспоминания молодости, когда она выгуливала сначала маму, а потом − дядьёв.
Я навсегда запомнил этот ночной разговор, он мне потом часто мерещился, часто снился, особенно мука по тридцать девять копеек за два кило – что-то из области фантастики. Тогда мне хотелось кричать, рыдать. Как так: уехать от бабушки, от дядьёв, от нашего храма (рядом с домом стояла церковь, я любовался ей из окна), уехать из Москвы? А как же бассейн? Променять его на какой-то длинный бассейн? И зачем маме нужны ещё дети? Значит, я ей больше не нужен?
Когда подрос, я нашёл у мамы папку со старыми школьными фотографиями. На двух фото мама была по грудь – портретная съёмка. На фото за восьмой класс мама была в синей форме. Она не сидела в первом ряду, как многие девочки. Она стояла сбоку, справа, рядом с высоким парнем, и от этого казалась ещё меньше, и юбка действительно была несколько длинновата.
Мама начала заниматься спортом поздно – в 13 лет. Современным пятиборьем. Просто пришла сама в спортшколу и сказала: хочу заниматься. Плавание мама проворонила. Плаванием надо заниматься максимум с семи лет, а лучше с пяти. Плавала мама плохо – лучшее её время было минута-одиннадцать на сотке. Но мама хорошо бегала, метко стреляла, неплохо фехтовала. И её взяли в спортинтернат. С лошадью не сложилось. Однажды на тренировке лошадь под мамой испугалась чего-то и понеслась по стипль чезу4. Два круга мама скакала галопом. Больше мама на лошадь не садилась. У неё к тому времени был КМС, так и остался. В спортинтернате мама не училась, только тренировалась, но ей выдали документы об окончании школы – о среднем образовании. Как закончила выступать, так сразу пошла в пятиборскую спортшколу тренером. (В институте физкультуры мама училась заочно.) Поначалу инструктором в бассейн, в абонементную группу, а потом ей спортивную группу дали. В этой первой маминой спортивной группе оказалась талантливая девочка. Она потом стала чемпионкой страны и призёром Европы. И маме присвоили высшую категорию, нежданно-негаданно она стала получать приличную зарплату. И теперь мамину фамилию можно найти в Википедии, где про чемпионку рассказывается. Жаль только, что мамина настоящая фамилия в скобках, а без скобок − фамилия Николая Николаевича, которого для простоты я буду звать Никник. Я его за глаза всегда так звал.
Мама отдала меня в сад в два года, в малышовую группу, но через два месяца забрала, ей не нравилось, что мало с нами гуляли. За то непродолжительное время в саду, я, двухлетний, чётко уяснил, что ругают не виноватого, а того, кто под руку попадётся. Если ты, например, сильно будешь рыдать, то ты – пострадавший. Главное – громче орать. Я стал отрабатывать своё «открытие». Мы с мамой по воскресениям много гуляли в лесопарке. Я копал лопаткой ранний снег, пытаясь спасти недавно опавшие кленовые листья. Ко мне обратился какой-то дедок. Дедок был с бабусей. Я разозлился, превратился в разъярённого тигра, они отрывали меня от раскопок и спасения листиков. Я заорал, расплакался. Мама сказала дедку:
− Не приставайте к моему сыну.
Подставил я дедушку. И не раз потом я так подставлял и ровесников, и ещё многих, чтобы мама на них ругалась.
Мама таскала меня маленького в церковь. Мне там не очень нравилось. Понравилось мне в церкви, когда мы переехали в Мирошев. Всё, что запомнил в Москве: много людей, толпа, я боялся «крови христовой» − мама мне запрещала есть-пить из одной с кем-то ложки, а тут всех из одной ложки поют, и просвирки невкусные, пресные, чёрствые. Я ж ничего не понимал. Огоньки свечек мне нравились. Мама всегда ставила свечки за здравие, писала бумажки с перевёрнутой тройкой (я не знал, что это буква «Е»), расплачивалась, бормотала имена, когда свечки ставила и крестилась. Один раз в церкви я разобрал среди маминого бормотания имя, которое часто слышал в разговорах мамы с бабушкой. А потом, когда мама меня забрала из сада, и я стал ходить к ней в бассейн, я опять услышал это имя – Евгеньич. В бассейне я увидел молодого и красивого человека. Он был как гора – мощный, широкие плечи, сильные руки, обтянутые рукавами светлой футболки. Недавно папа признался: Евгеньич был мамин парень со времён спортивного интерната, первая любовь. Это Евгеньич договорился, чтобы маму взяли на работу в бассейн. Почему он не женился на маме, я так и не знаю, да и знать не очень-то хочу. Потому что тогда меня на свете бы не было.
3. В бассейне
Сначала мама не пускала меня в воду. Полтора года я сидел на бортике и подавал-забирал досочки, лопатки и колобашки5. В бассейне меня все любили: тренеры, администраторши, буфетчица, уборщицы, все старались мне что-нибудь подарить, мама всех благодарила, но вредную еду отнимала. Ближе к весне мама стала загонять меня, почти четырёхлетнего, на крайнюю дорожку, и лафа моя закончилась раз и навсегда. Я барахтался в нарукавниках − мама вела передо мной страшный гладкий железный шест. Я мёрз (бассейн был прохладный), уставал, я глотал воду, захлёбывался и задыхался − мама не обращала внимания. Мама кричала (в бассейне все тренеры кричат – специфика акустики), иногда ругалась, обзывала меня «глистом в унитазе». (Хорошо, что не «дерьмом в проруби».) Я ревел, но в бассейне это почти незаметно. Я выл – маму это абсолютно не пробивало. Я сделал открытие: если наглотаться воды в бассейне, начинает болеть живот. Стал этим пользовался. А потом поносы и рвота прекратились, живот перестал болеть, организм привык. Снова тренировки. Я решил симулировать болезни. Врал прямо с утра, что у меня болит живот, ни в какую не шёл в бассейн, извивался на полу якобы от боли, а на самом деле – от ужаса, что мне опять надо лезть в эту холодную воду и работать ногами, работать руками, дышать определённым образом и выливать воду из очков, которые мне были велики. Мама везла меня в поликлинику. Хирург щупал живот, спрашивал: «болит – не болит», пожимал плечами, педиатр выписывал талончик на УЗИ. Всё было нормально. Как же я завидовал больным детям, которых встречал в поликлинике: толстым, хромым, слабоумным. А мне надо плавать в бассейне четыре раза в неделю!
Тогда я прислушался к организму и стал уверять маму, что спина болит. И она по-честному болела. Но мама в случае со спиной совсем не испугалась, сказала:
− Меньше прыгай на батуте.
Батут установили на улице неподалёку от бассейна: готовился к летним развлечениям конно-спортивный комплекс, где и находился бассейн. Я дорвался, скакал на батуте как энерджайзер.
Я упирался, уверял, что спина болит дико, канючил и капризничал в воде. И тогда мама выругалась, бросила железный шест на дорожку, он шлёпнулся о воду и медленно передвигался. Шест выловил Евгеньич, приобнял, похлопал маму по плечу, поцеловал в щёку, успокоил, что-то сказал. Мама отдала меня в группу к Громовой. Громова была моей крёстной, а ещё мастером спорта по плаванию, очень хороший тренер. Когда я спрашивал её, почему она выбрала плавание, она отвечала: просто мне нравилось плавать. Громова была толстая, добрая, но требовательная, очень милая и любезная, дети её любили. Нет: мама меня бы хорошо плавать научила, но я закапризничал – вот и получил. У Громовой я испугался капризничать, группа была на два-три года меня старше, я их боялся и вёл себя смиренно. Старался как мог и… расстроился, когда наступило лето и занятия у Громовой закончились. До осени. Я с мамой поехал в лагерь, нацеленный на плавание. Лагеря – мамина летняя статья дохода. Никаких дотаций и льготных путёвок не было. Мама сама выбирала лагерь и везла свои группы, иногда и чужие, при этом она брала денег больше, чем требовалась по путёвке, и за билеты брала как за взрослые, а покупала, естественно, детские – надо ж было нам с мамой как-то жить. Громова и некоторые другие тренеры с мамой никогда вместе в лагеря не ездили, они в лагерях с детьми отдыхали, мама всегда и везде заставляла тренироваться. Один раз у неё на солнцепёке девочка в обморок упала. (Эта девочка сейчас чемпионкой стала по дуатлу и триатлу6, и маме вернули высшую категорию.) А другой раз у мамы пацан в бассейне чуть не утонул. Но в бассейне всегда спасают. Этот пацан после лагеря больше в группу к маме не вернулся, он к другому тренеру перешёл, к Евгеньичу.