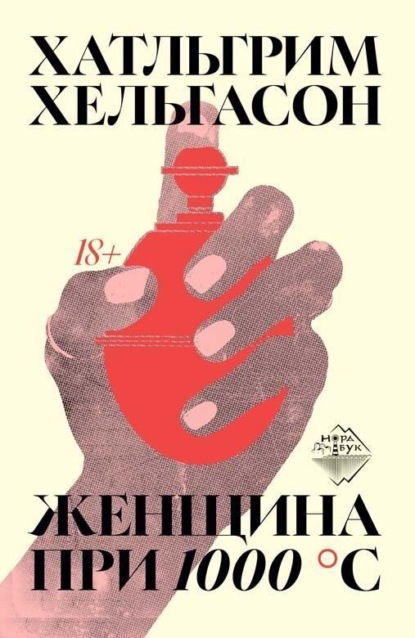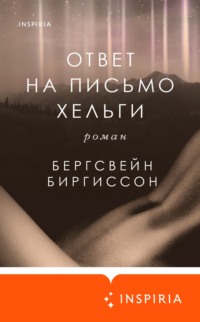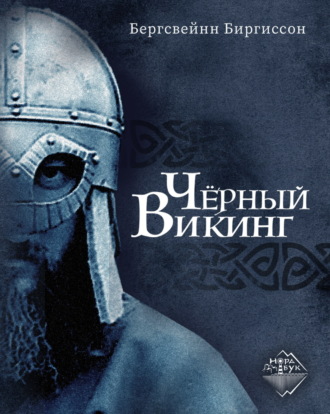
Полная версия
Чёрный викинг
Искусство скальдов – окно в душу язычников
Мысль о том, что Гейрмунд изъяснялся на красивом и ёмком древнескандинавском языке, завораживает. Его звучание напоминает звон оружейной стали или вонзающегося в бревно топора, он прямой, выражающий самую суть. Ритм и тон понижаются, ударение падает на первые гласные, а все последующие кажутся эхом удара. Мы точно не знаем, как звучал этот язык, один и тот же гласный может быть кратким или долгим, и от его долготы зависело значение слова, но насколько краткими или долгими эти гласные были в произношении, нам неизвестно.
Важной частью учёбы в королевской усадьбе во времена викингов было обучение скальдическому искусству, поэзии, умению «приручать» язык. Поэтическое искусство показывает нам цивилизованную и мудрую культуру.[77] Конунг Хьёр наверняка позаботился о том, чтобы у его сыновей были лучшие учителя по этому предмету. Скальд являлся не только ближайшим другом и советником хёвдинга, тем, кто мог воздвигнуть над аристократом поэтический обелиск, но и лучшим учителем для его сыновей. Этому есть множество примеров.[78]
Скальд во времена Гейрмунда – это целый общественный институт. Он историк и разносчик новостей, он то, что мы сегодня называем СМИ, хотя в те времена информация распространялась намного медленнее. Между властью и медиа давно существует прочная связь: конунг, не обученный скальдическому искусству и не имеющий контактов со скальдами, едва ли достиг бы больших высот в древнескандинавском обществе[79]. В «Саге о Хальве» говорится, что мальчики легко управлялись со словами, были orðvísir, а это слово употребляют, характеризуя человека, который имеет некоторые способности к поэтическому искусству. Сочинительские навыки, в таком случае, они получили в доме отца в юном возрасте.
В сказании о происхождении Гейрмунда лучший из скальдов, Браги Старый Боддасон, наведывается в родные места мальчиков в Эгвальдснесе. Вполне можно предположить, что он или другой человек его масштаба мог стать для мальчиков важным источником сведений о мудрости былых времён, frœði, и о скальдическом искусстве.
* * *Не так давно я присутствовал на ужине с писателями, некоторые из которых обрели признание не только в Норвегии, но и за её пределами. Один из них, большой любитель поэзии, рассуждал о французской и немецкой литературе, поэтических традициях и греческой поэтике, а потом перешёл к европейскому канону. Никто не сомневался в его начитанности. Когда же я упомянул, что ему не стоит забывать древнескандинавскую поэзию, поэтические традиции его собственной культуры, ответом мне была смесь удивления и сочувствия, так сочувствуют идиоту или человеку, потерявшему дорогу.
Древнескандинавское скальдическое искусство, нашу собственную традицию и её вклад в мировую культуру писатели и учёные часто считают чем-то диковинным. И это само по себе совершенно очевидный признак того, что древнескандинавская культура – это проигравшая культура, культура, которой больше нет. Как бы наша культура ни пыталась приукрасить себя, называя древнескандинавскую культуру своим «наследством», или как там её ещё называют на торжественных мероприятиях, выясняется, что к этой культуре мы относимся поверхностно. Мы начинаем университетское образование с обязательного курса греческой философии, а вот достижения мысли древнескандинавской культуры полностью отсутствуют в расписании и, судя по всему, скоро вообще не будут предметом изучения в университетах. Мы называем бесполезную работу Сизифовым трудом, а не бесконечной битвой Хьяднингавиг, хотя оба мифа несут один экзистенциальный посыл. Мы ходим на курсы совместной жизни, где постоянно подчёркивают необходимость компромиссов, но не упоминают миф о Ньёрде и Скади.
Мне вспоминается разговор с моим старым учителем Пребеном Мёленграктом Сёренсеном в Университете Осло в середине 1990-х годов. Я сомневался, стоит ли мне пускаться в опасное плавание и начать изучение древнескандинавского языка и литературы, и я спросил об этом на своём ломаном датско-исландском. Пребен решил уделить мне время и встретился со мной. Мы взяли кофе в пластиковых стаканчиках и уселись за стол в студенческой столовой. Вероятно, самое важное на той встрече было сказано в самом начале: Пребен заявил, что человек, который решил серьёзно изучать древнескандинавскую культуру, должен прежде всего признать в своём сердце, что эта культура не примитивна. Когда он заметил кофейную лужицу вокруг своего стаканчика, он стал упрекать себя за неловкость, встал и пошёл за салфетками. Мы говорили ещё о чём-то, чего я не помню, и Пребен снова пролил кофе. Только когда он почти полностью выпил свой напиток, мы обнаружили, что на дне стаканчика была трещина.
– Вот видишь, – сказал Пребен на своём мягком датском, – примитивна как раз современность!
* * *Мы поставили себе цель как можно лучше узнать Гейрмунда, а значит, надо попытаться понять, как он мыслил. Мы уже говорили о том, что саги записывали люди, которые являлись христианами во многих поколениях. Эддические песни, без сомнения, передают древние легенды и мифы, но, возможно, они обрели известную нам форму в христианские времена, и поэтому прежде всего передают эстетику и восприятие жизни, свойственные христианской или греко-римской культуре. Древнейшие скальдические висы старше, и они демонстрируют совершенно иное восприятие жизни, чем остальная древнескандинавская литература. И раз уж мы собрались хоть что-то узнать о том, как думали и что чувствовали люди, жившие в дохристианскую эпоху, мы должны обратиться именно к ним.
Гейрмунд и его люди относились к природе совершенно не так, как мы. Мы говорим о том, что прогулки на природе приносят здоровье и доставляют радость, на природе мы становимся сами собой, избавляемся от отчуждённости и освобождаемся от ига цивилизации. Язычник же скорее стремился не быть на природе, а найти место, где от неё можно отдохнуть. В искусстве такой подход выражается в течении под названием «антинатурализм» или «противоприродность». Нежелание общаться с природой у первобытных народов приобретает разнообразные формы: самоеды рассказывают о людях, которых убили и разделили на множество кусочков, а на следующий после убийства день кусочки собирались вместе, люди оживали и уходили. Гренландцы рассказывают о женщине, которая громко смеётся каждый раз, когда белый медведь откусывает ей руку.
Мир сказаний для первобытных народов – это место отдыха от законов природы, и по такому же принципу скальды создают метафоры, благодаря которым мы видим оленя в заливе, слонов в волнах, кита на лугу, покрытую водорослями гору, рыбу, плывущую по долине, и так далее. Скальды не желают подражать природе, как это будет позже в классическом искусстве, поэтому исследователи долгое время относились к скальдическому искусству как к примитивному, ведь, по их мнению, скальды не умели подражать природе. О скальдах судили, исходя из той эстетики, которой они не знали! Обычная картина природы – чайка на волне – сама по себе для дохристианского менталитета не представляла абсолютно никакого интереса, её рассматривали лишь как средство создания напряжения между противоречиями. Скальды предпочитают показывать нам чайку битв (ворон) на вершине волны трупов, то есть на куче мёртвых воинов: мирная картина природы создаёт напряжение и противовес жуткому зрелищу. В этом проявляется отношение к природе как к ресурсу, культура должна формировать и переиначивать картину природы, но ни в коем случае не имитировать её. По словам одного влиятельного историка искусств, отношение к природе и окружающему миру оказывает наибольшее влияние на формирование художественного выражения, а странные и неестественные картины древних традиций демонстрируют, что люди, которые в действительности живут на природе, воспринимают её как враждебный хаос.[80]
Таким образом, мне кажется, мы можем представить себе, как Гейрмунд относился к природе. Народ, который живёт в суровых природных условиях, искренне желает спрятаться от них, он находит место отдыха в фантазиях и абстракциях. Северяне искажают природные формы, чтобы создать себе пространство для духа.
Природа – это йотун[81], который даёт и забирает – даёт много плодов земли и рыбы, чтобы потом забрать людей, наслав на них снежные лавины и шторма. Природа – это йотун, которого надо приручить и с которым необходимо бороться, это и есть борьба за жизнь: борьба с природой-йотуном. Мысль о том, чтобы подражать этому йотуну или считать его чем-то возвышенным или образцовым, далека от тех, кто живёт в таких условиях. Гейрмунду в голову не приходит считать природу красивой, как это произошло у людей, утративших с ней связь, возможно, мысли о красоте природы предполагают урбанистический образ жизни, отчуждение от природы, туризм и хорошую дозу классической философии. Мы также должны помнить, что воспевание и приукрашивание означает создание дистанции между человеком и тем, что он воспевает, означает удаление человека из описываемой действительности. Гейрмунд и его современники едва ли додумались бы до этого по той простой причине, что они находились в природе: разницы между человеком и природой для них не существовало.[82]
* * *Древнейшие образцы языка скальдов, а значит, и мифология, показывают нам культуру, которая почти не подверглась влиянию представлений южных стран. Картину мира создают обыденные вещи. В поэтических описаниях, кеннингах, говорится, что небо – это чаша или сосуд, перевёрнутый вверх ногами. «Чаша ветров» – так называет небо Браги Старый, а звёзды – это глаза йотунов. Змей Мидгарда удерживает море, как ремень удерживает штаны, он подобен ремню, которым подвязывали башмаки, обручу из ивовых прутьев, которым скрепляли бочку, подбору на сети, струбцине земли – мифология и скальдическая поэзия отражают повседневность. Прибитая к берегу древесина превратилась в первых людей, дерево, растущее посреди усадебного двора, стало прообразом мирового древа в центре Мидгарда. Детали повседневности переносились на картину большого мира и приобретали невообразимые размеры, благодаря чему наделялись смыслом.
Красота возникает для викингов во время столкновения контрастов или противоречий – кстати, нечто подобное мы видим в сюрреализме. Вместо того чтобы рассматривать природные формы с точки зрения цвета и пытаться сымитировать или представить их, викинги стараются создать напряжение между элементами природы, чтобы возникла причудливая картина. Знаменитый кеннинг, или скальдическая метафора, называет корабль «скакуном моря», это отличная иллюстрация сказанному. Несмотря на то что мы знаем, что речь идёт о корабле, эстетическое наслаждение состоит в визуализации картины внутренним взором, в представлении скакуна, несущегося по морским волнам.
Чтобы люди не перестали визуализировать скальдические метафоры, то есть чтобы воспрепятствовать их превращению в мёртвые метафоры, как в поговорках, возникла система опознавательных знаков, метафорические правила или понятийные метафоры вроде морского скакуна: КОРАБЛЬ – ЭТО МОРСКОЕ ЖИВОТНОЕ.[83] Далее можно создавать всё новые причудливые картины: большой корабль становится «слоном волн», а маленькое манёвренное судно – «бараном моря». В этих случаях скальды играют на противопоставлении МОРЯ и СУШИ. Когда сельдь именуют «крачкой рыболовных сетей», происходит встреча НЕБА и МОРЯ. Мы видим, что сам кеннинг формируется под влиянием восхищения от создания напряжения между противоположностями. Противоположности могли быть любыми, хотя в основе их лежали природные элементы. ПРИРОДА и КУЛЬТУРА – популярная пара, ЧЕЛОВЕК и ЖИВОТНОЕ тоже, ВЫСОКОЕ и НИЗКОЕ сталкиваются в том числе в социальном плане, если АРИСТОКРАТ ассоциируется с КРЕСТЬЯНИНОМ или РАБОМ, как в пословице о том, что такое воевать – «кормить волков и воронов» (а не обычных домашних животных, которых кормят крестьяне и рабы). Если нам встречается мирная картина природы, скорее всего она скоро столкнётся с войной и кровью. СЕКС и СМЕРТЬ встречаются, к примеру, в рассказах о том, как мёртвые совокупляются с богиней смерти Хель, мрачным и угрюмым созданием.
Другая пара – это МУЖЧИНА и ЖЕНЩИНА. На скандинавских монетах[84] VI века и позднее можно увидеть окружённую руническими знаками фигуру, у которой есть и женская грудь, и борода. Можно предположить, что мы имеем дело с отсылкой к очень древнему представлению северян о жизни. В мифах мы находим, например, женскую бороду, которой можно связать волка Фенрира, это парадоксальное явление представляет собой наиболее прочную вещь, то, чем можно связать самое большое из чудовищ. Здесь мы наблюдаем верование или отношение к жизни, которое нам довольно чуждо: мир был создан столкновением противоречий, севера и юга, льда и огня. Сила создания возникает из напряжения между противоположностями, как дитя зачинается из напряжения между мужчиной и женщиной.[85]
Древние скальды сказали бы, что хорошая метафора – это сопоставление элементов, которые абсурдно сравнивать и которые совершенно не похожи друг на друга – за исключением небольшой детали. Эстетическое наслаждение заключалось в том, чтобы реципиент мог тёмным зимним вечером усвоить метафору, чтобы мог спокойно додуматься до её значения. Иными словами, мы видим, что европейцам понадобилась почти тысяча лет, чтобы вернуться к такому эстетическому образу мышления, то есть прийти к сюрреализму. Крупный теоретик сюрреализма писал, например: «единственное, что придаёт мысленной картине настоящий эффект, это потрясающее сходство, с которым окружающее вступает в полное противоречие».
Далее он использовал старинные скальдические метафоры, чтобы продемонстрировать «хорошую поэтическую картину».[86] Бретон в своём манифесте заявлял, что одной из основных идей движения сюрреалистов был возврат к человеческой мысли в «природном состоянии». Эстетика древних скальдов показывает, что сюрреалисты нащупали какой-то след.
* * *В древнейших скальдических висах перед нами предстаёт общество без письменности или со слаборазвитой письменностью. Древнейшие сочиняли песни, чтобы подкрепить «истинные знания», писал Снорри, и было необычайно важно правильно запомнить их и безостановочно передавать от человека человеку. Стихи снабжались техническими вспомогательными средствами для запоминания, вроде аллитерации, внутренних рифм и постоянного количества слогов. Мы можем представить себе, что их исполняли под простую музыку или ритмичное постукивание, я бы сказал, в стиле рэп, что тоже помогало запомнить слова.[87] Метафорические картины играли при этом важнейшую роль.
Универсальное правило гласит, что человек запоминает лучше всего посредством зрения или мысленных образов, в то время как абстрактные понятия и слова сложнее закрепляются в памяти. Древнескандинавский глагол «помнить», типа, хороший пример того, что и во времена викингов люди отдавали себе в этом отчёт, потому что этот глагол имеет тесную связь с существительным mynd, картина. Тот факт, что картины эти так или иначе причудливы, заставляет их надолго поселиться в памяти. Когнитивная психология доказала, что такие картины обладают сильным эффектом запоминания, который называют «the bizarreness effect», эффектом причудливости. Дохристиане даже разработали целую систему, основанную на этом понимании, систему кеннингов, которая позволяла скальдам начать массовое производство изумительных мысленных картин. И это даёт нам хорошую причину верить утверждениям писцов XIII века о том, что некоторые скальдические висы имеют дохристианское происхождение. Висы могли долгое время жить, передаваясь из уст в уста, до того, как были записаны. Искусство помнить исчезает после появления на Севере христианства и письменной культуры.[88]
Искусство старейших скальдов может пролить свет на то, какие чувства жили в груди у Гейрмунда. С современной точки зрения перед нами предстаёт чужой и завораживающий менталитет.
Постоянное присутствие Хель
Мир, в котором растёт Гейрмунд, жесток, судьбы людей в нём постоянно сталкиваются. Мальчик наверняка наблюдал, как бьют и охаживают кнутом коней и рабов, не пролив при этом ни слезинки. Болезни, страдания и смерть являлись частью повседневности. Слабовидящие ходят вдоль стен и спотыкаются об ограды, у них мало шансов на хорошую жизнь. На лицах представителей низших слоёв общества Гейрмунд видел униженность, он видел опухшие от боли и воспалений руки и ноги, он с близкого расстояния видел психические страдания и неврозы, видел, как обритые тифозные больные и прокажённые беспомощно бродят по дорогам, изгнанные из общества.
С другой стороны, он видел сильных людей, у которых всего имелось в достатке. Судя по древнейшим песням, конунг в дохристианские времена считался кем-то вроде бога, во всяком случае, близким другом богов. Хорошие отношения с высшими силами проявлялись в богатых урожаях и мирной жизни. Конунг являлся политическим и религиозным лидером в догосударственные времена. Его власть строилась на союзе с богами, с одной стороны, и с другими конунгами – с другой.
Границы между богами и легендарными предками были размыты. Для Эгвальдснеса это тоже характерно – взрослеющий Гейрмунд видел вокруг себя намного больше величественных курганов, чем мы сегодня, и, несомненно, во времена Гейрмунда люди думали, что в этих курганах погребены исторические личности. Погребальные курганы служили центром не только жертвоприношений, но и политической жизни – на кургане Флаггхауг (Кюрхауг) конунг викингов Хьёр, возможно, принёс в жертву животное и скрепил какой-нибудь союз крепким рукопожатием от имени всех своих могущественных предков.
По отношению к смерти господствовали различные идеи, связанные с родом. В подземном царстве мёртвых hel, Хель, было сыро, холодно и темно; там человека ждало такое же существование в виде тени, как в царстве Аида, только при этом в бергенском климате. Персонификация смерти, Хель, была жуткой и уродливой женщиной, сестрой волка Фенрира, с чёрным, как у Гейрмунда, лицом. Она шла по полю битвы и наступала на павших воинов, а на могильном кургане возлюбленного стояла с улыбкой победительницы на устах. И богам, и людям суждено проиграть битву с Хель. Неизвестно, насколько эту персонификацию почитали в качестве религиозного образа, известно только, что викинги вроде Гейрмунда и Ульва не стремились встретиться с владычицей царства мёртвых.
Идея Вальгаллы появилась в древнескандинавском мире образов довольно поздно и так и не смогла получить всеобщего одобрения. Вряд ли Гейрмунд был с ней знаком[89]. Люди после смерти попадали внутрь гор, где пользовались вечным гостеприимством своих предков, или же становились жителями курганов, стоя в них в полном воинском облачении, готовые вступить в бой с любым незваным гостем. Кто-то продолжал ходить по земле, раздувшийся, с синим лицом, и тот, кто был скверным при жизни, после смерти становился скверным вдвойне. Мёртвые обитали в водопадах и камнях, предки скрывались в кустах, окружавших их старые дома. Во времена викингов смерть не считалась ни радостным событием, ни умиротворением, как в христианстве: что угодно лучше, чем смерть, – слепой лучше сожжённого, и никому нет пользы от мертвеца, nýtr manngi nás, говорится в «Речах Высокого».
Однако существовал иной способ примириться со смертью, и мы можем с уверенностью утверждать, что викинги знали этот способ так же хорошо, как и люди, жившие в более поздние времена: осмеять её. В смехе заключён великий потенциал примирения. Мы видим, что гротескный образ смерти появляется в жестокой среде воинов-викингов – как в наши дни чёрный юмор прекрасно прижился среди хирургов в отделениях скорой помощи. Современник Гейрмунда и Ульва, Тьодольв из Квина, в одной песне о смерти рассказывает, как ужасная Хель заключает мертвецов в свои объятия и занимается с ними любовью.[90]
Отношение викингов к божественному можно описать как своего рода дружбу-сделку. Если жизнь становилась слишком тяжкой, язычник прекращал общение с богами, чему есть множество подтверждений, ведь и богов, и норн можно порицать за безрадостную судьбу.[91] Нельзя с уверенностью сказать, что такую веру в богов можно назвать более примитивной, чем ту, что есть у нас сегодня. Макс Вебер показывает в своих исследованиях, что в более поздние времена также было принято видеть связь между благосостоянием человека и благосклонностью божественных сил.[92] Однако язычник стоит перед своим богом с прямой спиной, он не научился испытывать перед ним стыда за свои грехи, и он не боялся проклятия богов и вечного наказания.
Древняя песнь говорит, что в раннехристианскую эпоху Один бродил по Эгвальдснесу. Возможно, это утверждение имеет определённую связь с реальностью. Один считался главным божеством аристократов, и, вероятно, к нему так и относились во времена викингов в Эгвальдснесе. Не исключено, что именно одноглазому богу Гейрмунд поклонялся в юности, если, конечно, он не обладал таким же нравом, как и его будущий товарищ Хельги Тощий, который «призывал Тора в морские походы и при суровых испытаниях, а также в тех случаях, когда для того было много работы».[93]
Однако боги и, возможно, богини – не единственные существа, обитающие в окружающем мире. Мир Гейрмунда Чёрная Кожа населён драконами и призраками, оборотнями, йотунами, демонами и обитателями курганов (предками, к тому же), эльфами, гномами и духами всевозможных видов. Некоторых из них мы знаем под названием «духи земли», поскольку они описаны в древнейших песнях. В старинных сборниках законов сказано, что не следует пугать духов земли и надлежит снимать с викингских кораблей драконьи головы при приближении к земле. В этом случае речь идёт не о вере и идеях, и точно не о том, что мы имеем в виду, когда говорим о так называемых народных верованиях. Вероятно, в мыслях Гейрмунда упомянутые существа были такими же реальными, как люди и животные. Мечта, сочинительское искусство и фантазия ещё не оперировали категориями, выходящими за рамки действительности, и мы не можем исключать, что древние знали толк в формах жизни, которые мы, поборники разума, давно утратили способность чувствовать.
Юноша в Эгвальдснесе каждый день учится и становится сильнее. Очень скоро ему потребуются все его знания и силы для встречи с грядущим.
У самого крайнего тёмного моря
Бьярмаланд (861–866 гг. н. э.)
СЫН: Такие вещи должны казаться удивительными всем, кто слышит о них, как о тех троллях, что, по рассказам, живут в том море. И ещё я понял, что шторма в том море происходят чаще, чем где бы то ни было, поэтому особенно странным мне кажется то, что это море покрыто льдом и зимой, и летом больше, чем любое другое. И мне очень удивительно, что люди стремятся попасть туда, ведь это опасно для их жизней, и я пытаюсь понять, что такого люди ищут в той стране, что могло бы принести им пользу или доставить радость…
ОТЕЦ: Ты узнаешь, почему люди стремятся в ту страну, почему следуют туда, подвергая свои жизни смертельной опасности. Это происходит от трёх человеческих склонностей. Первая – это стремление к соперничеству и славе, потому что в человеческой природе заключено стремление направиться туда, где есть надежда оказаться в опасности, и так обрести почёт и славу. Вторая – это жажда познания, в человеческой природе также заложено желание и увидеть, и изучить то, о чём рассказывают, и понять, правдивы ли рассказы. Третья же – желание обрести богатство. Ведь человек ищет богатства во всех местах, где, по слухам, можно что-то отыскать, даже если это сопряжено с большими опасностями…
(Из «Королевского зерцала», ок. 1250)К северу от моря Думбсхав и мира йотунов находится страна, имя которой Бьярмаланд…
(Из «Саги о Хульд»)
На дворе 861 год.
Гейрмунду Чёрная Кожа исполнилось 14 зим, он – подросток в мире, где нет понятия подросткового возраста, а детство заканчивается в 12 лет.[94] Гейрмунд прошёл суровую закалку, он понимает самые сложные скальдические висы и может складывать собственные кеннинги: «женой золота» называет он девочку, о которой мечтает по вечерам, царапая её имя рунами на доске. Он стал гибким и сильным, у него ломается голос. Скоро он отправится в долгий путь. «Книга о занятии земли» говорит:
Хьёр совершил набег на Бьярмаланд. Там он захватил в плен Льюфвину, дочь конунга бьярмов. Она осталась в Рогаланде, когда конунг Хьёр снова отправился в поход. Тогда она родила двух сыновей. Одного назвали Гейрмунд, а второго Хамунд. Они были весьма темнокожи…[95]
В описаниях средневековых учёных мужей Бьярмаланд предстаёт довольно экзотичным местом. Географы сходятся во мнении, что местность расположена за периферией цивилизованного мира и что люди Бьярмаланда представляют собой самое далёкое и самое экзотическое общество. Геродот называет жителей Бьярмаланда «поедателями вшей»[96], арабы помещают страну за седьмой климат у Моря Мрака, и «лишь Аллаху ведомо, что находится за ней». Русские называли эту территорию в северной части Сибири Полуночной страной, а её жителей самоедами, то есть «теми, кто пожирает себя сам», и считали, что они умирают каждую зиму, чтобы потом вновь пробудиться к жизни. Их рты располагались между лопатками, и они пили человеческую кровь. Европейские историки рассказывали об «амазонском обществе» на самой северной оконечности Европы в стране, которая граничила с царством лопарей, где женщины беременели от чудовищ и рожали мальчиков с пёсьими головами.