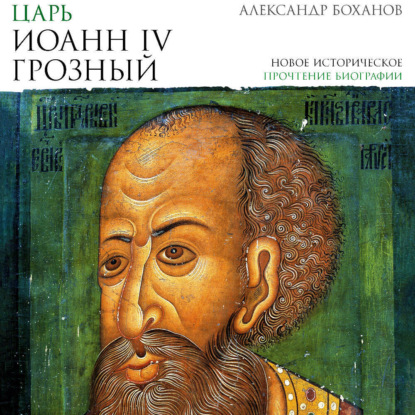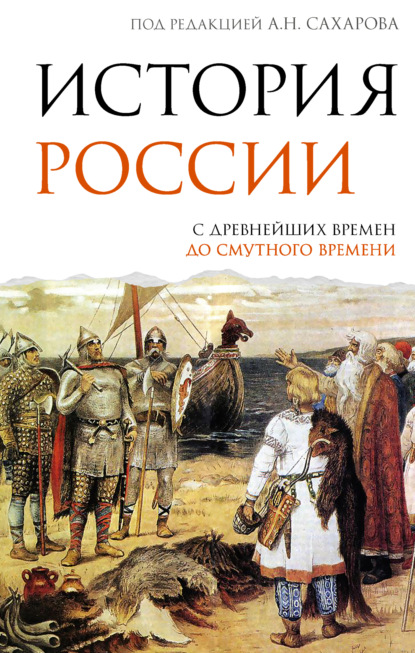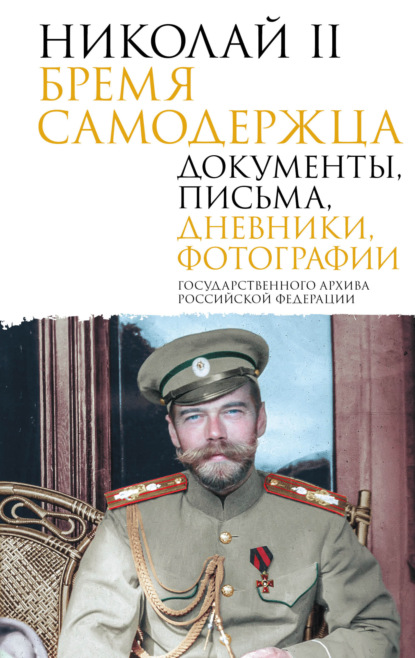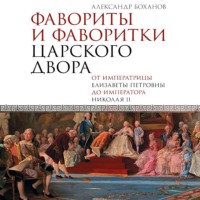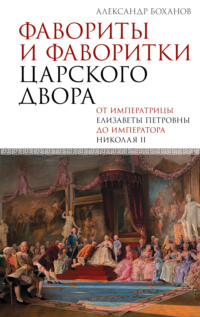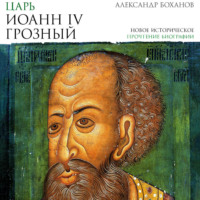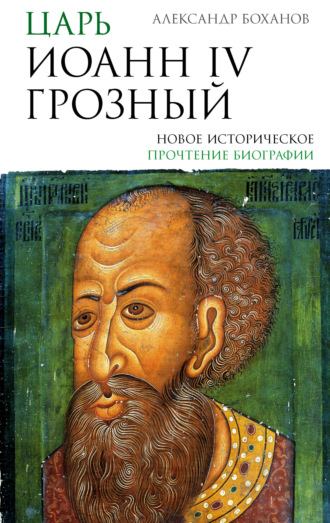
Полная версия
Царь Иоанн IV Грозный
Русское государство, сцементированное единством власти и веры, включало обширные территории: от Новгорода на западе до реки Оби на востоке. Московский Великий князь стал титуловаться Самодержцем, т. е. полностью независимым как в делах внутрирусских, так в делах внешних. Однако смысловое содержание этого предиката власти только двумя признаками суверенитета не исчерпывалось. Существовала и еще одна важнейшая ипостась, раскрывающая вассалитет правителя земного по отношению к Царю Небесному[54]. Для христианина подобное подчинение есть не только высший нравственный выбор, но и – абсолютная форма зависимости.
Титул «самодержец» нередко заменяют греческим «автократор», который применительно к русскому определению не является аутентичным, по смыслу он ближе к ромейскому «василевсу». В литературе по этому поводу давно ведутся дискуссии.
Московский Великий князь как христианин навсегда оставался «подданным» Небесного Вседержителя. Именно эта сфера отношений – человека и Бога – формировала и определяла всю совокупность русских космологических воззрений периода Московского Царства. Новое самосознание выразительно отразила позиция Великого князя Московского Иоанна III, отвергшего в 1489 году предложение Императора «Священной Римской Империи германской нации» Фридриха III о «даровании» короны. «Мы подлинные властители в нашей земле, и мы промазаны Богом – наши предки и мы… И мы никогда не искали подтверждения тому у кого-либо, и теперь не желаем такового»[55].
В начале пришло осмысление верховной власти как Богопоставленной, «царской», а затем – «земли-царства», имеющего сакральное предназначение. Это уже был совершенно самостоятельный русский опыт интерпретации универсальной вселенско-библейской мироконструкции. Здесь нет разрыва с классическим богословием; оно выступает как благодатная и надежная опора, позволяющая промыслительно оценить события-знамения, которых во времена Апостольские и Святоотеческие не существовало.
Учение о царской власти как форме церковного служения, которое стало господствующим в русском церковно-богословском сознании к началу XVI века, нередко служит поводом для огульных обвинений в «цезарепапизме». Подобная нарочитая модернизационная оценка, как констатировал знаток русского философского наследия протоиерей В.В. Зеньковский (1881–1962), «не улавливает самой сердцевины» церковно-политической идеологии. «Царская власть, хотя и имеет отношение к земной жизни людей, является в этой идеологии фактом внутрицерковного порядка… Если смысл истории – запредельный (подготовка к Царству Божию), то самый процесс истории хотя и связан с ним, но связан непостижимо для человеческого ума. Царская власть и есть та точка, в которой происходит встреча исторического бытия с волей Божией»[56].
Подобный взгляд позволил русскому богословию гармонизировать существо двух внешне противоположных начал: Царства Божия и царства от мира сего. Идея о церковной функции Царя, о превращении его в особый церковный чин родилась и оформилась в первые века от Рождества Христова в Империи Константина. Богословская мысль там выражала уже существующую реальность. На Руси же она стала идеологическим явлением через сотни лет, но еще до того, как «Русское Царство» обрело свои зримые институциональные и титульные черты.
Предметом давней дискуссии является происхождение на Руси титула «Царь» и его предикативное использование применительно к носителям верховной власти. Отдельные авторы считают этот термин эндемичным, другие – обнаруживают его корни в древнем, санскритском языке[57]. Некоторые исследователи убеждены, что «кесарь» – грецизм, происходящий от греческого «кайсар»[58].
Широко циркулирует гипотеза о его латинском происхождении: «царь» фонетическая модификация латинского «caesar» («цезарь»). При этом некоторые интерпретаторы идут в своих предположениях еще дальше и заключают, что «царь-цесарь является синонимом титула император»[59].
Никаких исторических оснований для подобных категорических выводов не существует. Как констатировал еще в XIX веке известный русский юрист и гербовед А.Б. Лакиер (1824–1870), «названия Царь и Кесарь стоят рядом, как далеко не значащие одно и то же… Царь не есть сокращенное слово Цесарь… и мы убеждены в том, что оно чисто русское»[60]. Они действительно «стояли рядом», существуя семантически неслиянно.
На Руси не прижились ни римский титул «император», ни греческо-ромейский «василевс». Только «Царь» с самого начала являлся единственной и универсальной категорией, фокусирующей все высшие прерогативы власти. Как обоснованно заключил знаток семиотического материала, в отличие от Империи Константина, «в России наименование монарха «царем» отсылало прежде всего к религиозной традиции, где Царем назван Бог; имперская традиция для России была не столь актуальна»[61].
Русская лексическая практика уже на ранней стадии своего развития разграничивала понятия «царь» и «кесарь» (цезарь). Это разномыслие показательным образом отражено в восклицании первосвященников из известного евангельского сюжета о суде Пилата: «нет у нас царя, кроме кесаря» (Иоанн 19. 15).
Уже ранние русско-славянские транскрипции Писания отражали эту дихотомию. Правда, в самых первых славяно-русских вариантах бинарная формула звучала несколько иначе, фонетически созвучно с римским образцом: «не имамы цесаре, разве кесаря», «не имам цесаре, токмо кесара», «не имамы цесаря, но кесаря», «не имам цесаря, токмо кесаря». Но уже с XIII века водворяется ясная смысловая двухмерность. Сам же факт ее предыдущего отсутствия нельзя не признать удивительным, если учесть, что понятие «царь» известно по самым первым русским письменным свидетельствам.
Установить же точно время русскофонного рождения термина и начало его бытования на Руси не представляется возможным. Известно, что древнейшие сохранившиеся письменные источники нередко используют это определение. В Лаврентьевской летописи первый раз «царь» встречается еще в «дохронологической» эпохе, в рассказе о легендарном основателе Киева Кии. Опровергая слухи о нем как о простом лодочнике, «перевознике», Летописец заявляет, что если бы таковое было, то Кий «не ходил в Царьград к Царю», от которого «принял великую честь»[62].
В Ипатьевской летописи впервые «Царь» встречается под 1110 годом, в рассказе о жизни и делах Александра Македонского, который и обозначен этим титулом[63]. Наряду с «царем» в древнейшем летописном своде – «Повести временных лет» встречается и определение «цесарь», которое в некоторых случаях используется синонимически, а иногда имеет самостоятельное значение, как титул владетельного лица.
«Царь» не раз употребляется в ранних летописях при упоминании различных властителей: от персидского Хозроя до монгольского Батыя. Ни о какой сакральной инсигнии тут речи не идет: это всего только обозначение власти и силы. Совсем иное дело Царь «Грецкой земли», правитель, пребывающий в мировой христианской столице «Царьграде» и наделенный благочестием, которого иные правители-цари не имели.
Московский Великий князь Василий II (1425–1462), обращаясь к последнему Императору (1448–1453) Константину XI Палеологу, называл его «благочестивым и Святым Самодержцем всея вселенныя», титулуя «Державным и Благовенчанным, и благочестия ревнитель, и непорочные Православныя христианския веры теплый и непреклонный истинный поборник и правитель, и Высочайший Царь и Самодержец Греческого скипетра»[64].
Применительно к русским носителям верховной власти в лице Великих князей царское титулование не применялось вплоть до конца XV века, хотя отдельные примеры подобного наречения обнаруживаются в свидетельствах и более ранней поры. Однако все это – лишь единичные случаи излияния восторженных чувств по адресу тех или иных княжеских фигур, но отнюдь не отражение русской царекратической идеологии, которой тогда еще не существовало.
Понятия же «самовластец» и «самодержец» утвердились в ритуально-титульном обиходе еще во время Древней Руси, как обозначение суверенных прав властителя[65]. «Царь» же появился лишь тогда, когда в сознании укрепилась не просто идея «Богопоставленности» верховной власти, но и сопряженная теперь уже с ее мировым и особым предназначением.
В этой теологической конструкции «Царь» осмысливался главой христианского православного рода человеческого не по земному владетельному титулу, а по сакральному замыслу. Это не просто властитель страны, но, если использовать лексику послания Василия II, «Самодержец всей вселенной».
В ранней греко-римской традиции использовались определения «империя» и «император», а в VII веке, при Императоре Ираклии (610–641), у ромеев появляется титул «василевс».
На Руси же изначально оперировали понятиями «царство» и «царь», являвшимися русскими эквивалентами лишь по форме. Царь – особая, исключительная категория в системе православного, Христоцентричного сознания. По заключению исследователя, «само слово «царь» выступает в Древней Руси как сакральное слово и соответственно характеризуется той неконвенциональностью в отношении к языковому знаку, которая характерна вообще для сакральной лексики: тем самым называние себя царем никак не может рассматриваться как произвольный, волюнтаристский акт»[66].
Чрезвычайно точно русские представления о царском титуле передает французский капитан Жак Маржерет, прибывший на Русь в 1600 году по рекомендации Французского короля Генриха IV (1553–1610) для службы Царю (1598–1605) Борису Годунову. Прожив несколько лет в России, где ему пришлось иметь дело с людьми различного звания и состояния, Маржерет позже написал книгу о Московии, которая до сих пор остается одним из важнейших документальных свидетельств о жизни и нравах Руси конца XVI – начала XVII века.
«Что касается титула, – сообщал французский наемник, – то наименование «царь», здесь употребляемое, считают самым высоким. Императора римского они именуют цесарем, производя это слово от Цезаря; прочих же государей – королями, следуя полякам; владетеля персидского называют кизель-баша, а турецкого – великий господарь турецкий, т. е. великий государь. Слово «царь, по их мнению, находится в Священном Писании, где Давид, Соломон и иные государи названы «Царь Давид», «Царь Соломон». Поэтому они говорят, что наименование, коим Богу было угодно некогда почтить Давида, Соломона и других властителей Иудейских и Израильских, гораздо более приличествует Государю, нежели слова цесарь и король, выдуманные человеком и присвоенные, как они полагают, каким-нибудь завоевателем»[67].
О сакральном смысле понятия «Царь», укрепившемся в народном сознании, удачно написал русский мыслитель Г.П. Федотов (1886–1951). «Народ относился к царю религиозно. Царь не был для него живой личностью или политической идеей. Он был помазанником Божиим, земным Богом, носителем божественной силы и правды. По отношению к нему не могло быть и речи о каком-либо своем праве или своей чести. Перед царем, как и перед Богом, нет унижения». Это глубоко духовное русское восприятие и объясняло тот факт, что слово «Царь» непереводимо на иностранные языки, «ибо мистически связано с русской религиозной идеей»[68].
Современный исследователь, изучавший народные представления о государственной власти, обоснованно заключил, что «в народном сознании царь представлял собою сакральную ценность высочайшего значения, уступающую лишь Богу. При этом сакрализация царя не означала его обожествления, обожествлялась его функция»[69].
В русском историческом самосознании должен был совершиться целый переворот, чтобы оно начало воспринимать Русь вселенским «Благословенным Царством». Знаки этого пути ясно различимы уже в умонастроениях второй половины XV века, еще при Великом князе Василии II («Темном»). Святой Митрополит Иона (†1461), обращаясь к Новгородскому архиепископу в 1459 году, отмечал высочайшее благочестие Московского правителя, которого «Всемилостивейший Бог вразумлял», который принял свое «благородство» от «святого и Великого князя Владимира», великое попечение о вере Христианской имеет и, даст Бог, будет иметь его «в отчизне, в Рустей земле, непорушно до скончания века»[70].
Другой святитель, архиепископ Новгородский Иона (†1470), наставлял Василия II незадолго до его кончины в 1462 году, что сыну-преемнику Иоанну (Иоанну III) предстоит «хоругвь русскую содержать». Святой обязался молиться перед Всевышним о том, чтобы княжение Иоанна «укрепилось над всеми», и чтобы покорились ему «все супостаты», и чтобы он «прославился властью» больше прародителей и простерлись «силы его на многие страны великие»[71]. Вселенское задание уже явно предощущалось и заповедовалось православными святителями.
Василия II в различных случаях нарекали и «Великим Господарем», и «Царем Русским», и «Царем всея Руси». Последний Константинопольский Император Константин, обращаясь к нему, именовал его «братом», а сам Великий князь в послании в Царьград называл себя то «братом Святого твоего Царства», то «сватом Святого твоего Царства»[72].
Несмотря на это, Московский Великий князь Василий II Васильевич Царем не стал. Как не стал им ни его сын-правитель Иоанн III (1462–1505), ни его внук-правитель Василий III (1505–1533). Будущий Митрополит Макарий, тогда архиепископ Новгородский, обращался уже к отцу Иоанна Грозного, Василию III, именно как к Царю, величал его «от Бога ныне возвышенному и почтенному, единовластному Царю во всем Великом Российском Царствии Самодержцу»[73].
Официально же царский титул ни за властью, ни за государством вплоть до Иоанна Васильевича не утвердился, но базовые смысловые признаки Царства-Империи обозначились значительно раньше. Русь как бы де-факто приняла существо Царства еще до венчания на Царство Иоанна Грозного в 1547 году, когда она стала таковым и де-юре.
Сама процедура венчания или коронации в общих чертах известна; она довольно подробно описана в Никоновской летописи[74]. Куда меньше сведений о смысловых предшествующих и сопутствующих обстоятельствах. Начнем, казалось бы, с частности, но весьма существенной: с происхождения коронационного венца. Известно, что на главу Помазанника была возложена не корона западноевропейского образца, а так называемая «Шапка Мономаха». Образец этой царской инсигнии до сих пор можно лицезреть в собрании Оружейной палаты Московского Кремля.

Великий князь Василий III Иоаннович
Н.С. Самокиш. Из кн. «Великокняжеская и царская охота на Руси». Т. 1, 1896 г.
Говоря о стиле данного предмета, современный исследователь без тени сомнения заявляет: «Как видно, шапка была скроена по татарскому образцу. Но после падения Орды восточный покрой вышел из моды»[75]. Это очень давний и очень распространенный историографический трюизм.
Подобные банальности постоянно рождает западоцентричное мировоззрение, транслирующее как постулат, что центр «мировой цивилизации» – Западная Европа. Все остальное и все остальные – периферия «мировой истории». Историческая же реальность опровергает базовый элемент спекулятивных теоретических построений о русском государственно-историческом опыте как явлении «азиатчины». Потому константинопольский фактор стараются или не замечать, или придают ему несущественное, а часто и негативное звучание.
Действительно, если признать, что Русь заимствовала культурно-духовные представления и идеократические принципы из Второго Рима – самого просвещенного, самого цивилизованного и самого богатого мирового центра в конце первого – начале второго тысячелетия от Рождества Христова, то все теории об отсталости России от «мировой цивилизации» превратятся в ничто.
Ведь Константинополь той поры это – не «Запад» или «Восток», это – земной, вселенский мир и по наследию, и по факту, выступавший собственником огромного интеллектуального богатства и выразителем высочайших духовных устремлений. По сравнению с ним, даже «Рим Ветхий» выглядел дальней провинцией, не говоря уже о прочих «очагах цивилизации».
Через Царьград на Русь пришло Православие, именно там, а не где-то еще, находился важнейший источник Святодуховного знания, формировавший русские представления о жизни, смерти, предназначении людей и стран. Оттуда же пришла и идея Царя, и представление о промыслительной функции царства. Ничего подобного никакая «орда» не давала, и дать не могла. Самый яркий и известный борец за «веру и царство» периода становления Московской Руси святитель Иосиф Волоцкий (Санин, 1438–1515) в трудах греческих Отцов Церкви и богословов нашел аргументы, помогавшие ему формулировать свои исторические обетования.
Нетрудно понять, почему вопрос о происхождении «царского венца», казалось бы, всего лишь элемент исторического интронизационного ритуала, имеет до сего дня острое идеологическое звучание. Эту остроту ему как раз и придают тенденциозные сюжетно-тематические манипуляции западоцентричной мысли, для которой неприемлема вся «Мономахова история» в том виде, как она запечатлелась в произведениях XVI века.
В качестве символа властного достоинства «Шапка Мономаха» появляется при Иоанне III. Более двухсот лет, вплоть до первой четверти XVIII века, до провозглашения императорства – она важнейший святой знак интронизации. Впервые документально ее присутствие на Руси зафиксировано в первой половине XIV века – «шапка золотая» упомянута в завещании Великого князя Владимирского с 1328 года Иоанна Даниловича Калиты (1283–1340).
Исходя из этого делаются заключения, что регалия была получена Великим князем Иоанном Калитой от хана Узбека[76], которая, украшенная крестом, начала выступать в качестве царственного венца, как корона «Византийского Императора». Руководствуясь «ханским происхождением», некоторые уверенно считают ее и по бытовому стилю, и по художественному исполнению произведением исламского искусства.
Между тем ученые еще в XIX веке, проведя тщательный историко-искусствоведческий анализ царского венчального атрибута, пришли к совершенно иным выводам. По своей форме «Шапка Мономаха не Императорская стемма, не королевская корона», она «могла быть кесарским шлемом или почетным золотым шишаком кесаря». Очень важный аргумент в пользу неисламского происхождения – качество художественного исполнения золотых платин. По заключению исследователей, скань или филигрань Мономаховой шапки относится к редкому типу «ленточной филиграни» и представляет «образец высшего технического искусства». При этом «в скани оставлено место только для больших саженых жемчужин», что было характерно для искусства Византии XI–XII веков.
«Орнаментация шапки и отдельные ее рисунки принадлежат византийскому искусству XI–XII веков и не имеют ничего общего с позднетатарскими обыкновенно весьма грубыми филигранными изделиями». Знаток русской старины профессор Н.П. Кондаков (1844–1925) в этой связи заключал, «мы не можем не объяснить прямою ошибкою предположение, что Мономахова шапка должна относиться к XIV–XV векам» и «быть татарского происхождения». Искусство же исполнения и сам стиль работы свидетельствуют о том, что это византийский памятник XI–XII веков и по времени своего происхождения «ближе всего совпадают с эпохою Владимира Мономаха»[77].
Что же касается самого стиля «головного убора», который некоторым авторам напоминает то «чалму», то «тюрбан», то чуть ли не «тюбетейку», то это – область субъектных эстетических ассоциаций. Шлемовидные головные уборы были распространены в повседневном обиходе и в Империи ромеев, и в Домонгольской Руси. Самое первое из известных иконографических изображений русской Великокняжеской семьи, сохранившееся на ктиторской фреске Киевской Софии, свидетельствует, что в начале XI века атрибутами княжеской власти являлась шлемовидная «шапка (с опушкой), плащ (древнерусское – корзно) и сапоги красного цвета»[78].
При Иоанне III в русской исторической практике впервые зафиксирован коронационный ритуал, который являлся ранее типичным для Восточной Римской Империи, а позже получил распространение и в странах Западной Европы. В Константинополе чин венчания на царство появился в самом начале VII века, когда Император Фока (602–610) был коронован в церкви Иоанна Предтечи. В 610 году Патриарх Сергий короновал Императора Ираклия (610–641) в храме Святой Софии, и с тех пор этот храм становится единственным местом венчания на Царство.
В пантеоне русских правителей Первым Царем заслуженно именуют Иоанна Васильевича. Первым же «венчанным на княжение» в феврале 1498 года стал внук «Великого князя всея Руси» Иоанна III – Дмитрий (1483–1509)[79]. Церемония венчания князя Дмитрия в феврале 1498 года происходила в кафедральном Успенском соборе в присутствии Великокняжеской семьи и православных иерархов. После молебна и речи Великого князя, Иоанн III возложил на внука Царские регалии – Шапку Мономаха и бармы (оплечье). Дмитрий стал «первою личностью в русской истории, носившею царский венец»[80].
Это «венчание» не на Царство, а на великое княжение, оказалось лишь краткосрочным эпизодом из жизни Великокняжеской семьи и на преемственности власти не сказалось. Всесильный дед в 1502 году, получив сведения, что внук и его мать – дочь Молдавского господаря Стефана III Елена (†1505) симпатизируют антихристианской секте «жидовствующих», разгневался на Дмитрия, лишил звания «великого князя» и запретил поминать «венчанного» в церковных молитвах. Наследником стал сын от второго брата Великого князя Иоанна III с Софией Палеолог Василий Иоаннович.
Акт священного коронования, процедура мистического таинства ниспослания Божьей благодати особе монарха завершали длительный процесс выпестовывания формы верховного государственного правления. И когда Первый Царь уже в свои зрелые лета говорил, что он «на царстве родился», то это являлось не выражением династического тщеславия, а отражало государственно-историческое мировоззрение, прочно утвердившееся на Руси в ту эпоху.
В этот период возникают русские богословские транскрипции идеи царя и идеи царства, взросшие на богатейшей ниве церковно-канонического опыта православного богословия. Представление о Московском государе как об особом избраннике, о сакральной делегации его полномочий, о мировом духовном задании Царя – первым на Руси обосновал и сформулировал Иосиф Волоцкий, умерший в 1515 году, а уже в 1579 году канонизированной Церковью в лике Преподобного. Ученик и последователь Преподобного Пафнутия Боровского (1394–1477), он основал в 1479 году под городом Волоколамском Иосифо-Волоколамский монастырь, ставший уже в XVI веке одной из крупнейших обителей России. Страстный полемист и непримиримый борец за благочестие, он оставил большое духовное наследие, особое место в котором занимает его «Просветитель, или обличение ереси жидовствующих».
Исследователь традиции русской святости философ Г.П. Федотов (1886–1951) написал: «Горячий патриот Русской земли и ее национальных святынь, Иосиф содействовал развитию политического сознания московского князя в царя православного»[81]. Такая трактовка представляется слишком упрощенной. Монах и аскет, сникавший славу благочестивого подвижника с юных лет, не личность конкретного правителя возносил, присваивая ему царскую функцию. Прекрасно богословски образованный, Иосиф «узрел» Царя в Москве не по субъективному намерению, а в силу тех мировых причин и обстоятельств, которые отрывались православной душе и постигались пытливым умом.
По мысли Иосифа, как в древности Русская земля, «нечестием всех превзыде», так ныне – «благочестием всех одоле». Если в иных христианских странах много всякого «нечестия и неверия», а к ересям там относятся снисходительно, то на Руси все «Единого Пастыря Христа едина овчата суть и вси единомудръствующие и вси славящее Святую Троицу»[82].
Правитель должен показывать пример благочестия, ибо он избранник Всевышнего, которого Тот вместо Себя посадил на престоле. Суд Божий грозит всем людям, но с «Царей и Князей» спрос будет особый. Ибо Царь «естеством подобен есть всем человеком, властию же подобен есть Всевышнему Богу», вручившему земному Своему Наместнику и суд и попечение и о Церкви, и о всей Русской земле. Государь, по подобию власти небесной, получает «скипетр земного царствия», а Господь посылает ему силы духовные, «правду хранить». Божественные правила повелевают повиноваться Царю и Архиерею, но царю принадлежат люди своим телом и делами, а Архиерею, как преемнику Апостолов, своею душой.
Иосиф утверждал в качестве важнейшей христианской добродетели правила иерархического послушания, являющиеся непререкаемым нравственным законом. «Если ты поклоняешься или служишь Царю, или Князю, или начальствующему, то следует поклоняться и служить потому, что это угодно Богу – оказывать властям покорность и послушание: ведь они пекутся и думают о нас. Ибо написано: «Начальника в народе твоем не поноси» (Исход. 22. 28). И апостол говорит: «Бога бойтесь, царя чтите» (1 Петр. 2. 17)». Но служить и поклоняться начальствующим надо «телом, а не душой, и воздавать им честь как Царю, а не как Богу, ибо Господь говорит: «Отдайте кесарю кесарево, а Божие Богу» (Матфей. 22. 21)[83].