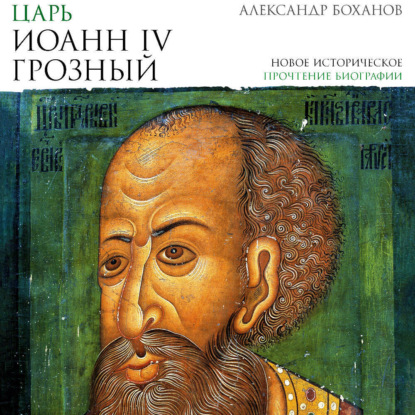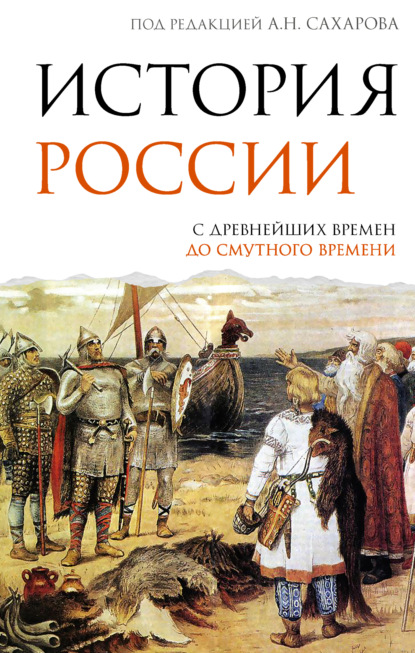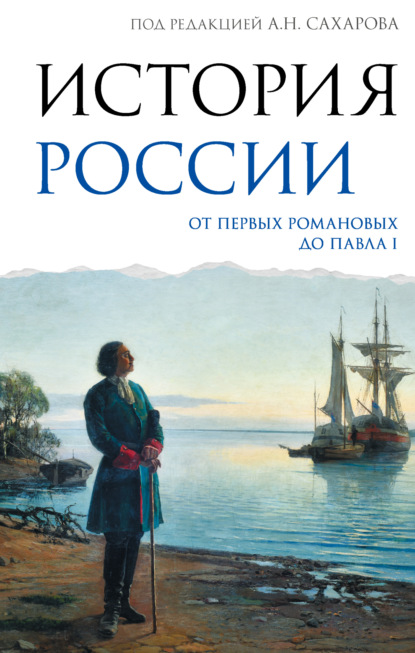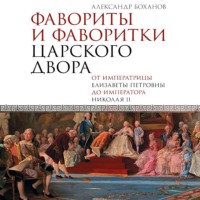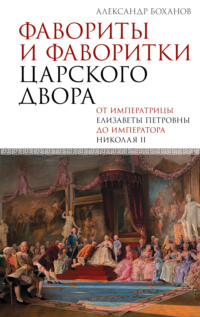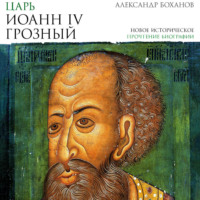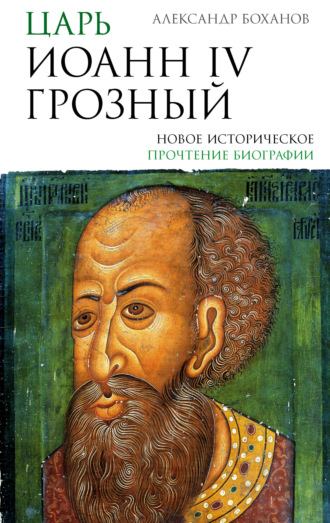
Полная версия
Царь Иоанн IV Грозный
И самый сильный контраргумент против всех антицарских инсинуаций – пиететное отношение народной памяти к Царю Иоанну. Народное почитание Иоанна Грозного потрясало уже Н.М. Карамзина. «Добрая слава Иоаннова пережила его худую славу в народной памяти; стенания умолкли, жертвы истлели, и старые предания затмились новейшими»[26], – констатировал Карамзин. Знатоки фольклора почти в один голос утверждают: в народном эпосе Иоанн Грозный – любимый и высокочтимый герой. Даже «буревестник революции» А.М. Горький признавал, что «в народных песнях и сказках Грозный Царь является Царем мудрым, а главное – справедливым»[27].
Народ оказался прозорливее и добросердечней, чем многие историки, с каким-то патологическим мазохизмом вытаскивавшие на поверхность только мрак и жестокость, акцентирующие внимание почти исключительно на «злодействах», нередко просто придуманных.
Иоанн Грозный являлся человеком XVI века, он был не просто правителем, а правителем в Государстве-Церкви, каковой в ту эпоху являлась Русь-Московия. Неприятие духовной первоосновы русского бытия приводит к тому, что даже сведущие историки позволяют писать невообразимое. Вот только один характерный пассаж. Говоря об отношениях Грозного и священника московского Благовещенского собора Сильвестра, историк резюмирует: «Иван увлекся религией и вскоре преуспел в своем увлечении»[28]. Увлекаться можно чем угодно, в том числе и какой-то «религией»: поклонение дереву, камню или «коммунизму» тоже может стать «религией».
Иоанн же Васильевич был с рождения и до смерти православным; никогда не отклонялся от веры в Иисуса Христа. Как заключал митрополит Петербургский Иоанн: «В 1584 году Царь мирно почил, пророчески предсказав свою смерть. В последние часы земной жизни сбылось его давнее желание – митрополит Дионисий постриг Государя, и уже не грозный Царь Иоанн, а смиренный инок Иона предстал перед Всевышним Судией, служению Которому посвятил он свою бурную и нелегкую жизнь»[29].
Однако подобных случаев исторической духовной реконструкции личности Иоанна IV – единицы. Примеров же аберрации исторического зрения – тьма. Сошлемся на один типичный случай.
Американский историк Джеймс Д. Биллингтон, много лет посвятивший изучению России и ее культуры, написал: «В страсти Ивана к абсолютному господству как в церковной, так и в гражданской жизни воплотился цезарепапизм, превосходящий что-либо бывшее в Византии…»
Что это: элементарное незнание или идеологический ангажемент? Думается, что второе предположение более обоснованно. Историк, занимающийся русской историей многие годы, не может не знать, он обязан это знать, что никогда, ни до, ни при Грозном, ни после него, русские Великие князья, Цари и Императоры при жизни не обожествлялись; наних и им никогда не молились. Потому на Руси никакого «цезарепапизма» не существовало и в помине.
Прекрасно зная, что многие другие правители творили несоизмеримо более масштабные насилия, американский автор прибегает к исторической фальсификации, заключая: «Слишком велико, однако, отличие Ивана от современных ему Тюдоров или Бурбонов, чтобы просто внести его в некий безличный список как одного из многих государственных устроителей. Его жестокость и коварство расценивалось почти всеми современниками – западными наблюдателями – как крайность, превосходящая что-либо ими виденное»[30].
Приведенная цитация – расхожее тенденциозное измышление. Почему же «слишком велико»? Ответа конечно же нет. Однако существует же «сухая статистика» цифр и фактов насилий и казней, но американскому автору она не требуется. Главное – в очередной раз заклеймить Россию старым идеологическим ярлыком «темное царство», а доказательства приводить нет надобности. Это что: «объективный исторический анализ», чем любят козырять представители западных исторических школ? Нет, это – откровенная идеологическая подтасовка.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Первая публикация монографии.Боханов А.Н.Царь Иоанн IV Грозный. М.; Вече, 2008. – 352 с. Первое издание книги. Боханов А.Н.Царь Иоанн Грозный / А.Н. Боханов; Рос. ин-т стратег. исслед. – Москва: ФИВ, 2013. – 559 с. – (Книжная серия РИСИ).
2
Даль. В.И. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I, М., 1989. С. 397.
3
Митрополит Иов. Повесть о житии Царя Федора Ивановича// Памятники литературы Древней Руси. Конец XVI – начало XVII веков. М., 1987. С. 77.
4
Существует генеалогическое предание, что род Глинских, перебравшихся из Литвы на Русь в самом начале XVI века, восходил к сыну Мамая Мансуру. Сам Иоанн Грозный никогда не признавал свое родство с Чингисидами. См.:Трепавлов В.В. Белый Царь. М., 2007. С. 96–97.
5
По другой пагинации Константин XII.
6
Собственно, государства «Византии» в действительности никогда не существовало. Все жители этой Римской (Восточной) Империи, существовавшей более тысячи лет, называли себя «ромеями» (римлянами) и вполне обоснованно считали свою Империю законной преемницей и наследницей Римской Империи. Термин же «Византия» ввели в обращение католические идеологи, стараясь умалить всемирно-историческое значение Империи Константина; он вошел в широкое общественное употребление в середине XIX века. В основу смыслового подлога было положено название возникшего еще в 657 году до Рождества Христова греческого городка Византий, куда в 330 году Император Константин (272–337) перенес столицу Империи из Рима, и получившую название – «Константинополь». От старой «Византии» уже при Императоре Константине не осталось никакого следа; все было построено заново. Константинополь стал центром величайшей мировой Империи. В период своего рассвета – с V по XII век – Константинополь являлся красивейшим, самым благоустроенным и наиболее населенным центром мира; число его жителей превышало миллион человек. Жители Империи Константина до самого конца осознавали себя именно «ромеями». Это была церковно-государственная традиция. Выдающийся канонист XII века и Патриарх Антиохийский Феодор Вальсамон, отвечая на вопросы Патриарха Александрийского Марка, писал в 1195 году, что православные христиане – «римляне, независимо от места проживания, а потому и должны подчиняться римским законам».
7
Подробнее см.:Боханов А.Н.Российская Империя. Образ и смысл. М., 2012.
8
Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в. М., 2006. С. 11.
9
Иоанн, МитрополитСанкт-Петербургский и Ладожский. Русская Симфония. Очерки русской историософии. СПб., 2009. С. 141.
10
Успенский Б.Восприятие истории в Древней Руси и доктрина «Москва – Третий Рим»//Успенский Б.А. Этюды о русской культуре. СПб., 2002. С. 141.
11
Временник Ивана Тимофеева. М.-Л. 1951. С. 179–180.
12
Перевезенцев С.В. Тайна Ивана Грозного. Религиозно-философские воззрения Русского Царя Ивана IV Васильевича//Русская социально-политическая мысль. XI – начала XX века. М., 2002. С. 6.
13
Перевезенцев С.В. Государь Иван IV Васильевич Грозный. В кн.: Царь Иван IV Грозный. М., 2005. С. 5.
14
Зимин А.А., Хорошкевич А.Л.Россия времен Ивана Грозного. М., 1982. С. 151.
15
Русская социально-политическая мысль XIX – начала XX века. Н.М. Карамзин. М., 2001. С. 86.
16
Малинин В.А.Русь и Запад. Калуга, 2000. С. 357.
17
Соловьев С.М. Сочинения. Кн. III, т. VI. М., 1989. С. 684.
18
Кавелин К.Д. Наш умственный строй. Статьи по философии русской истории и культуре. М., 1989. С. 223.
19
Утвержденная Грамота об избрании на Московское Государство Михаила Федоровича Романова 1613 г.//Царский сборник. Службы. Акафисты. Месяцеслов. Помянник. Молитвы за Царя. Коронация. М., 2000. С. 554–555.
20
Флоря Б.Н. Иван Грозный. М., 1999. С. 397.
21
Платонов С.Ф. Русская история. М., 1996. С. 88, 102.
22
Фроянов И.Я. Драма Русской истории. На путях к Опричнине. СПб., 2007. С. 926.
23
Кантор В.К.Русский европеец как явление культуры. М., 2001. С. 466.
24
Янов А.Л.Патриотизм и национализм в России 1825–1921. М., 2002. С. 53.
25
Подробнее об этом см.:Фомин С.В. Грозный Царь Иоанн Васильевич. М., 2009; Он же. Правда о Первом Русском Царе. М., 2010.
26
История государства Российского. Т. 9. М., 2009. С. 964.
27
Цит. по:Фомин С.В. Грозный Царь Иоанн Васильевич. М., 2009. С. 9.
28
Скрынников Р.Г. Иван Грозный. М., 2006. С. 51.
29
Иоанн, Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский. Ук. соч. С. 171.
30
Биллингтон Дж. Х. Икона и топор. Опыт истолкования истории русской культуры. М., 2001. С. 98–99.