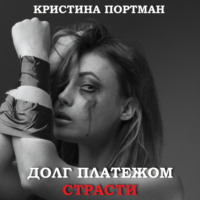Полная версия
Фатальная промашка паука
Еще одно сообщение приходит, пока чай остывает.
«Он приятный мужик, не переживай. Вино принесет. Я ему твой номер скинул – удобно будет списаться. Не против?»
«Скинул».
В груди что-то падает, как стеклянная крышка на кафель, и я еще не знаю – разбилась ли, или просто дала трещину. Он не спросил. Он не подумал. Он просто взял и отдал ключ от ворот. Мой номер. Мое личное пространство. Сдал мою позицию, даже не заметив, что идет бой. Я смотрю на экран, на эту легкую, беззаботную фразу, и впервые за весь день чувствую не холод, а жар. Резкий, обжигающий, как пар из чайника. Я не успеваю придумать ответ.
И не нужно.
Экран вспыхивает снова. Новое уведомление. Чужое имя в списке контактов: «Сергей (сосед)».
И входящее сообщение.
Я открываю его, и воздух в кухне становится густым, как вода.
«Ольга, добрый вечер. В субботу в семь удобно? И – раз уж мы теперь на связи – оставьте, пожалуйста, шторы открытыми. У вас очень красивый свет».
Глава 7. Неприятный разговор, Андрей
Когда я открываю дверь, мой день еще гудит в голове, как старый трансформатор. От отчетов в ушах остается тонкий писк, и наша кухня каждый вечер похожа на тихую железнодорожную станцию: все лампочки горят, но поездов нет.
– Оля? – обувь ставлю носками к стене, привычно. Это мой личный ритуал заземления. Как проверка огнетушителя: успокаивает, даже если пожара нет.
– Здесь, – она появляется из гостиной. Волосы стянуты в тугой узел, лицо спокойное. Такое спокойное, что я сразу понимаю: это не про покой. Это про порядок.
Хочется тут же провалиться в кресло, закрыть глаза на семь минут и стать тем человеком, который не совершает ошибок в таблицах Excel и в собственной жизни. Я шагаю на кухню, ставлю портфель на табурет. Руки под кран, лимонное мыло. Запах – «всё под контролем». Как бы мне хотелось, чтобы это была правда.
– Как день? – спрашиваю, чтобы нарушить тишину, которая здесь плотнее воздуха.
– Нормально, – отвечает она.
«Нормально» – наше универсальное слово. Им можно описать суп, погоду и пятнадцать лет брака. Удобное, как пластырь: не лечит, но прикрывает рану.
– У меня клиент… – начинаю я, и уже задним умом слышу этот оправдывающийся тон. – Дел невпроворот. Завтра раньше девяти не жди. Прости.
Она кивает. Не «ничего», не «конечно». Просто кивает. И улыбается тем уголком губ, который ничего не обещает. Я чувствую, как во мне поднимается колючая, бессильная усталость.
– Андрей, – говорит она вдруг тихо, и ее голос вырывает меня из офисного гула. – Можем поговорить?
Эти два слова я слышу как «а давай сдвинем шкаф». Я всегда сначала оцениваю, можно ли это сделать одному или лучше отложить. С разговорами сложнее. Их нельзя отдать в ремонт.
– Сейчас? – я машинально смотрю на часы. На телефоне мигает уведомление: сервер упал, проект горит, завтра в девять планерка. – Оль, может, после ужина? Честно, я еле стою. Голова… – я стучу себя по виску двумя пальцами, изображая короткое замыкание. – Дай минут двадцать тишины, ладно?
Она опускает взгляд на стол. Пустой, идеально протертый. Здесь вещи говорят, когда люди молчат. Я слышу собственное «потом» и понимаю, что это «потом» уже давно превратилось в «никогда».
– Ладно, – она отходит к окну, поправляет штору. – Позже.
Я ем, не чувствуя вкуса. Наша жизнь на кухне – отлаженный механизм: она ставит тарелку, я убираю; она моет, я протираю. И в этот безупречный танец никак не встраивается такой сложный элемент, как разговор. Я ловлю себя на том, что прислушиваюсь к тишине за стеной. Там – новый сосед. Раньше было пусто, и мне это нравилось. Теперь там иногда звучит музыка. Или сдержанный мужской смех.
Я иду в душ и под струями горячей воды задаю себе этот ленивый, дурацкий вопрос: «Чего ей надо?». У нее всё есть. Я – дома. Деньги – в дом. Дочь – почти взрослая. Орхидеи эти ее чертовы цветут, как по уставу. Чего еще? Когда-то давно, когда мой бизнес прогорел, я похоронил того парня, который мечтал и рисковал. Вместо него остался я – тот, кто платит ипотеку. Может, ей нужен он? Тот, кто мог съесть ночью холодный борщ прямо из кастрюли и потом засмеяться так, будто выиграл битву. Я того парня давно уволил. За профнепригодность.
После душа дышать становится легче. Я смотрю на Олю – она вытирает стол медленными, круговыми движениями. И мне в голову приходит простая, как отвертка, мысль: нужно что-то сделать. Не разговор, а *действие*. Разговоры у меня всегда выходят криво, как забитый не по резьбе винт. А вот действия… В действиях я силен.
На следующий день я сбегаю с работы на полчаса раньше. На цветочном рынке у метро чувствую себя шпионом на вражеской территории. Все эти запахи, цвета… Я звоню в тот маленький магазинчик, где однажды – в прошлой жизни, когда у нас было много пятниц – покупал ей белые пионы. «В октябре, милок? – смеется продавщица. – Пионы – это фантастика. Но можем собрать что-то похожее по настроению». Мы собираем «букет-как-если-бы»: белые розы, эвкалипт. Я даже прошу завернуть его в простую крафтовую бумагу, потому что помню, как она морщилась от блестящей упаковки. Я беру бутылку вина – ту самую, которую она тогда хвалила. Я запомнил название, как пин-код от банковской карты. Теперь я достаю эти воспоминания, как старую флешку, с замиранием сердца: сработает?
Дома я накрываю на стол. Двигаю стулья на полсантиметра – чтобы было идеально ровно. Ставлю лучшие тарелки. В голове крутится смешная мысль: «У нас ведь нет гостей». И это хорошо. Это будет наше свидание. Свидание с призраком того парня, которого она когда-то полюбила.
Я ловлю Настасью в коридоре.
– Ты вечером где? – спрашиваю как бы между прочим.
– У нас в универе семинар, – она рисует что-то в блокноте. – Не поздно. А что?
– Ничего. Мы с мамой… – я делаю неопределенный жест рукой. Я не умею говорить на их языке: «тусим», «чиллим». – Поужинаем.
– Поужинаете, – повторяет она, и в ее кривой улыбке я вижу какую-то взрослую, печальную мудрость. Она знает. Она видит, что я пытаюсь починить то, что давно не издает ни звука. Это тревожит и почему-то придает сил. Как будто хоть кто-то здесь еще верит в ремонт.
Я жду Ольгу, нервно поправляя вилки. Я все продумал. Я открою вино. Я скажу, что цветы – просто так. Я расскажу смешную историю про клиента. Я не буду говорить о проблемах. Я создам идеальный вечер. Такой же идеальный, как ее скатерть. Идеально ровный и пустой.
И я еще не знаю, что она придет домой с парковки, где чужой мужчина только что назвал ее красивой и холодной. И что мой букет «как если бы» будет для нее не знаком любви, а лишь еще одним доказательством того, как отчаянно я не понимаю, чего ей на самом деле надо.
Оля приходит, когда уже стемнело. У нас в прихожей желтая лампа, которая смягчает острые углы и делает лица добрее. Я протягиваю ей букет, как объяснительную записку опоздавшего ученика.
– Это тебе, – говорю. – Я… помню.
Она берет цветы. Смотрит на них так, как смотрят на красивую вазу в чужом доме: можно оценить, но нельзя присвоить. Я тут же ненавижу себя за эту мысль. На что я рассчитывал? На аплодисменты? На «Боже мой, Андрей, как в кино»? Мы давно не кино. Мы – документальный фильм о выплате ипотеки.
– Спасибо, – говорит она, и ее «спасибо» звучит как чек из магазина: сумма верна, но гарантия на чувства не распространяется.
Я ставлю музыку. И то, что в моей голове было отрепетировано как светлая, трогательная сцена, в реальности выглядит как подлинный стыд. Я открываю плейлист, там наше «раньше». Первая песня включается слишком громко, я дергаюсь, убавляю звук, слишком сильно, и теперь она звучит как комариный писк из прошлого. Я ловлю на себе ее взгляд – не раздраженный, нет, а тяжелый, как у врача, который смотрит на очень плохой рентгеновский снимок.
– Помнишь, – спешу я, пытаясь перегнать неловкость, – я тогда поставил это, а ты сказала, что под эту музыку можно резать яблоки бесконечно…
Она кивает. Пауза длится чуть дольше, чем это удобно для жизни. Музыка скребет тишину, как ложка по дну пустой тарелки.
– Я… открою? – я поднимаю бутылку, как главный аргумент, показывая этикетку. «Та самая». Я запомнил ее, как пин-код от карты, на которой когда-то были деньги.
– Мне не надо, – мягко говорит она. – Голова сегодня.
Я качаюсь на пятках, как мальчишка, который не был готов к отказу. Неловко поворачиваю вино к себе, будто просто хотел еще раз прочитать название. Ставлю на стол. Пытаюсь не смотреть на розы, потому что они кричат о моем старании. А старание, когда оно такое очевидное, – это хуже всего. Оно выдает твою слабость.
– Оля, – говорю я, и мне кажется, что я начинаю правильный, конструктивный разговор. – Я знаю, ты… в последнее время… – я машу рукой в воздухе, пытаясь поймать это неуловимое «в последнее время», – и я… Я делаю, что могу. Правда. Но ты… скажи конкретно, пожалуйста. Чего тебе не хватает? Составь список. Я сделаю. Куда сходить? Что поменять? Я… – я сбиваюсь, потому что это звучит как техническое задание, а не признание в любви, – я просто хочу, чтобы тебе было… ну… лучше.
Она смотрит на меня – внимательно, как на сложный механизм, к которому потеряли инструкцию. И говорит очень аккуратно, чтобы не сломать окончательно:
– Мне не нужен список, Андрей.
Мне легче, когда есть список. Список – это место, где можно поставить галочку и почувствовать себя молодцом. Без списка я теряюсь, как человек, у которого отобрали карту метро в незнакомом городе.
– Тогда… тогда поговорим. Сейчас. Про нас.
– Про нас, – повторяет она, не улыбаясь. – Хорошо. Я…
В этот момент из-за стены, как по заказу, доносится чужой мужской смех. Низкий, сдержанный, но абсолютно живой. У нас с Олей одинаково дергается взгляд на стену, будто там кто-то шепчет нам подсказку к задаче, которую мы не можем решить. Я ненавижу этот звук не потому, что он мешает. А потому, что в нем есть та бесстыдная легкость, которую я сам давно потерял.
– Андрей, – Оля закрывает глаза на долю секунды, – не сегодня. Извини. Я очень устала.
Я сглатываю. Мой рот наполнен несказанными словами, как карман чеками, которые уже не сдать в бухгалтерию. Я киваю. Опять. Я мастер кивков.
– Хорошо. В другой раз.
И чувствую себя человеком, который обещает позвонить, зная, что номер давно удален.
Она уходит в спальню. Я остаюсь на кухне с выключенной песней и бутылкой, которую не открыл. Розы стоят в вазе, слишком белые, слишком идеальные для этой комнаты. Я сижу минуту, другую. «Делай, что можешь», – говорит мой внутренний голос. Делать – я умею. Говорить – нет.
Я хватаю телефон. Пишу соседу. Это не капитуляция. Это тактический ход. Так я себе это объясняю.
«В субботу заходи. Семь. По-соседски. Вино с тебя, шарлотка с нас».
Он отвечает почти мгновенно: «С удовольствием. Не опоздаю». И смайлик. Обычный, взрослый.
Я кладу телефон и вдруг понимаю, что у нас снова будет кто-то третий. Это легче, чем быть вдвоем. Когда в комнате еще один человек, меньше слышно, как молчит любовь.
На следующий день я замечаю, что Оля ходит по дому как-то иначе. Словно ее движения – это музыка в наушниках, которую выключили, а она по привычке продолжает двигаться в такт тишине. Я захожу в кондитерскую и покупаю два эклера с карамельной шапочкой. Это не букет. Это не музыка. Это проще. Конкретнее. Пункт из невидимого списка.
Я открываю дверь своим ключом и на секунду замираю. Дома пахнет яблоками с корицей. Она пекла шарлотку. Значит, не все потеряно. Шарлотку она печет, когда ей надо, чтобы дом напомнил ей, зачем он нужен. Это хороший запах. Это запах надежды.
– Оля? – зову я. – Я эклеры принес.
Она стоит у окна в гостиной. Шторы… приподняты. Она будто слушает улицу. Оборачивается. И в этот момент на столе рядом с ее рукой вспыхивает экран телефона. Я не подхожу, не заглядываю – я не тот человек. Но текст, если он светится достаточно ярко, сам находит твой взгляд.
Имя – крупно: «Сергей (сосед)».
И первая строчка, как строка из чужой пьесы, услышанная за кулисами: «В субботу в семь удобно? И – раз уж мы теперь на связи…»
Я отвожу глаза, как от яркого света. Воздух в комнате становится плотнее.
– Эклеры? – Оля улыбается. Аккуратно. Берет пакет. – Спасибо.
– В субботу… он придет. Тебе ок? – спрашиваю я, и голос кажется чужим.
Она смотрит на погасший телефон, потом на меня. В ее глазах нет ни удивления, ни радости. Ничего.
– Конечно, – говорит она. – По-соседски.
Я ищу в ее голосе хоть что-то, за что можно зацепиться. И не нахожу. В груди щелкает тишина. Та, что бывает между песнями в плейлисте: ничего еще не закончилось, но и играть больше нечему.
Я ухожу в прихожую. Прислоняюсь лбом к холодной входной двери. За стеной, точно по расписанию, коротко смеются.
И в эту секунду мой телефон вибрирует. Сообщение от него. От Сергея.
«Андрей, добрый вечер. Спасибо за приглашение. Подтверждаю. Кстати, у вас чудесный свет по вечерам – редкая удача для этих домов. До субботы».
Я смотрю на эти слова. «Свет». Странное слово, когда дома так темно.
Глава 8. Неожиданное предложение, Ольга
Лестничная клетка пахнет железом и чем-то сладковато-пластиковым – остаточная память о переезде, который никак не закончится. Я иду вниз с мусорным мешком – мой маленький утренний ритуал: выносить, выравнивать, выдыхать.
Дверь Сергея открывается без скрипа. Он появляется ровно в тот момент, когда я прохожу мимо – идеальный расчет времени, который невозможно списать на случайность. В руках у него пустая банка из-под кофе. Ему идет эта пустота в руках: она подчеркивает его право выбирать, чем ее заполнить.
– Доброе утро, Ольга, – он говорит спокойно, как всегда. – У вас минута?
«Нет». Это слово поднимается изнутри, как волна. Но вежливость – мой автопилот. Я останавливаюсь и киваю. Я не обязана, и все же останавливаюсь. В этом вся я: делаю правильно, даже когда это меня разрушает.
– У меня всегда есть минуты для мусора, – отвечаю я. – Остальные – по записи.
Он улыбается коротко, оценивая ход. Банка постукивает по его ладони – звук, как тиканье таймера.
– Тогда быстро, – он держит паузу ровно столько, чтобы я успела устать от нее. – Я уезжаю. График такой. Квартира… – его взгляд скользит куда-то сквозь стену, в мой дом, – требует порядка. И готовить кому-то надо. Я подумал, это может быть удобно вам. Пара раз в неделю: прийти, приготовить что-то простое, убрать. Все официально. Оплата достойная. Ключ – только если захотите. И никаких… – он на секунду подбирает слово, – двусмысленностей. Только работа.
Слово «работа» падает между нами, как камень. Меня качает. Не от неожиданности. От унижения, которое срабатывает быстрее мысли. Он – сосед, чужой мужчина, который видел мой свет в окне. Который назвал меня красивой. И теперь он предлагает мне деньги за то, чтобы я мыла его полы. Моя мама, если бы услышала это, умерла бы второй раз.
Я могу сказать тысячу правильных фраз: про агентства, про расписания, про то, что у меня есть семья и дом. Но изнутри поднимается одно-единственное слово, высеченное на руинах моего детства: «границы». Он перешагнул. Не громко, не грубо – так, как переходят через полоску на полу, уверенные, что она нарисована для красоты.
– Нет, – говорю я. Удивительно, как хорошо это слово ложится на язык, когда им долго не пользуешься. – Нет, Сергей.
Он слегка наклоняет голову – не как «не слышу», а как «интересно».
– Это не про деньги, – добавляю я, отрезая ему следующий ход. – И не про «удобно». Это – про нас. Мы – соседи. И мы останемся соседями. Я не буду убирать у вас. Я не буду готовить вам. Никогда. Даже если вы принесете контракт с печатью.
Он на секунду прикрывает глаза – как человек, который получил на калькуляторе неожиданный остаток. А потом – без тени раздражения – достает из внутреннего кармана аккуратно сложенный лист. Логотип, шапка, сухие формулировки. Он действительно подготовился. Конечно. Он все делает правильно.
– Я подумал, – говорит он ровно, – что так вам будет спокойнее. Никакого тумана. Честная услуга за честные деньги. Ваш муж… – он оставляет паузу, длинную, как трещина на льду, – …оценит прозрачность.
Внутри меня что-то рвется. Тихо, как тонкая нить. Он сказал «ваш муж» и «оценит». Он сделал мой дом, мою семью, моего мужа – частью своей бухгалтерской ведомости. Я вижу одновременно две картинки: как я мою его раковину – чужую, стальную, – и как мама, сорокалетняя, униженная, вытирает чужой стол на «подработке», потому что отец ушел. Я дала себе клятву: «Никогда не быть жертвой».
– Мой муж ничего не будет «оценивать», – голос мой становится стальным, и мне это нравится, как нравится держать в руках холодный, тяжелый нож, – потому что этой темы не существует. И не будет. Вы не будете обсуждать меня с моим мужем. Вы не будете обсуждать моего мужа со мной. Вы не будете обсуждать меня. Точка.
Я иду к мусоропроводу. Он делает полшага, чтобы встать на пути, но вовремя решает, что это будет слишком грубо. Отступает. Хороший охотник знает, когда не спугнуть дичь.
– Ольга, – произносит он мягко, и эта мягкость сейчас оскорбительнее крика. – Я не хотел вас обидеть. Я видел, как вы держите свой дом. Это… – он подбирает слова, как инструменты, – талант. Я думал, вам будет приятно, если ваш талант оценят по достоинству. Не только комплиментом. Но и… – его пальцы чуть двигаются, будто пересчитывая купюры, – по-взрослому. Я ошибся в формулировке. Прошу прощения.
Слово «по-взрослому» в нашем подъезде звучит как ругательство. Я выпрямляюсь еще на сантиметр. Плечи – назад. Подбородок – вверх. Орхидеи у меня сейчас открыли бы все бутоны, если бы умели злиться.
– Мой талант, – говорю я, чеканя каждое слово, – не продается. И не сдается в аренду. Мой дом – это мой дом, а не демонстрационный зал. И последнее, Сергей. Я не люблю, когда мои принципы называют «формулировками». Мне приятно, когда меня видят. Не оценивают. И уж точно не пересчитывают на часы.
Я бросаю мусор в черный зев мусоропровода. Звук падения – окончательный и глухой. Я разворачиваюсь, чтобы уйти.
– Хорошо, – говорит он мне в спину. Голос спокойный, почти медитативный. – Тогда я просто найму кого-то. Будет приходить по средам и пятницам. Девушка. Молодая, старательная. Ей очень нужны деньги. Придется дать ей ключ. Надеюсь, она не будет шуметь.
Я замираю у своей двери. Спиной к нему. Я не вижу его лица, но я слышу улыбку в его голосе. Он не отступил. Он просто сменил оружие. Теперь это не прямое предложение. Это картина. Картина, которую он нарисовал специально для меня. Чужая молодая девушка. Дважды в неделю. В его квартире. С его ключом. Пока я через стенку варю борщ своему мужу. Это не угроза. Это хуже. Это – образ.
Я медленно поворачиваю голову. Смотрю на него через плечо. Он стоит, прислонившись к косяку, и смотрит на меня. Ждет.
И я понимаю, что он только что сделал. Он не предложил мне работу. Он предложил мне выбор. Стать униженной прислугой в его доме. Или стать ревнивой женой в своем.
И оба варианта – это ловушка.
Он молчит. И мне на долю секунды кажется, что его взгляд становится… другим. Не теплее. Глубже. Будто он увидел под слоем льда темную, быструю воду. Он опускает свой унизительный контракт, аккуратно складывает его, как складывают салфетку, которой не воспользовались. И не уходит.
– Прошу Вас, хотя бы подумайте, – спокойно. – На случай… обстоятельств. Я уезжаю послезавтра. Если что – напишите.
– Я не думаю, – отрезаю я. – И не пишу.
Возвращаюсь к двери. Ключ проворачивается в замке, как пункт в списке: «отказать, закрыть, забыть». И в этот момент он – тихо, почти как комплимент, – бросает мне в спину:
– Вы – все равно самая красивая и самая холодная женщина в этом подъезде. Жаль, если ваш талант останется без приложения.
Я замираю у самой двери, рука на холодной ручке. Воздух пахнет железом и его победой. Во мне вспыхивают одновременно две реакции – здравый смысл и кровь. Кровь выигрывает. Я медленно поворачиваюсь – не чтобы смотреть, чтобы сказать. И все слова, которые могли бы быть красивыми и хлесткими, отваливаются. Остается только простое, выстраданное:
– Еще раз произнесете что-то подобное – и мы будем здороваться через консьержа.
Дверь закрывается четко, как точка в приговоре. Внутри – мой дом. Моя тишина. Мои орхидеи, которые знают мой темперамент лучше, чем я сама. Я прижимаю ладони к столу – прохладная, гладкая поверхность возвращает меня в границы моей кожи. Чайник – включить. Он шумит, как дождь, от которого нельзя спрятаться. Я смотрю на свои руки – никакой дрожи, слава богу. Но внутри, глубоко, как забытая пружина в диване, тянет: унижение. Оно не горит, оно тянет – медленно, упрямо, лишая воздуха.
Он не просто предложил мне работу. Он предложил мне стать моей матерью. Встать на ее место у чужой раковины, с тем же выражением лица, которое я ненавидела в детстве – смесь покорности и тихого отчаяния. Он посмел. Это унижает так спокойно, так буднично, что хочется крикнуть. Я не кричу. Я мою кружку лимонным средством – словно пытаюсь отмыть что-то невидимое с собственной души.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.