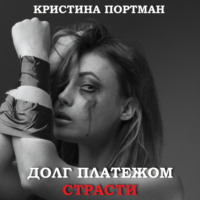Полная версия
Фатальная промашка паука
День превращается в симфонию чужого обустройства. Скрип скотча, глухие удары молотка, гул дрели, который проходит сквозь меня, как электрический ток. Я перебираю крупы на кухне, раскладываю их по идеально чистым банкам. Гречка. Рис. Сахар в ту самую стеклянную сахарницу, которая помнит наш смех, хрустевший на губах. Я пытаюсь заглушить внешний шум своим внутренним порядком.
К обеду звуки стихают. Грузчики, видимо, ушли. Я снова выхожу со шваброй на площадку, чтобы стереть последние следы. Дверь напротив приоткрыта. И я вижу его.
Он стоит спиной ко мне в пустой комнате, залитой солнцем и пылью. Просто смотрит в окно. И в том, как он стоит – расслабленно, но твердо, как хозяин, а не гость, – есть та самая ленивая грация хищника, который осматривает свою новую территорию. Он медленно поворачивается, будто почувствовав мой взгляд.
И наши глаза встречаются.
Всего на секунду. У него не смазливое, а породистое, волевое лицо. И взгляд – внимательный, цепкий, который не скользит по поверхности, а будто заглядывает под кожу. Он не выражает ни удивления, ни досады. Он просто смотрит. И слегка, одними уголками губ, улыбается.
Это не вежливая улыбка соседа. Это улыбка узнавания. Улыбка человека, который увидел не просто женщину со шваброй, а что-то другое. Что-то, что он искал.
Я замираю, сжимая в руке швабру, как последнее оружие. Сердце делает глухой, панический скачок. Я быстро отвожу взгляд, ныряю обратно в свою квартиру и прикрываю дверь, но не запираю ее.
Я стою в полумраке своего коридора, прислонившись спиной к холодной стене, и тяжело дышу. Снаружи – тишина. Но я знаю, что это конец. Это был не звук дрели и не скрип скотча. Это был звук, с которым в моей идеальной, неприступной крепости дали первую трещину.
Мне хочется порядка, и я делаю то, что умею лучше всего: заменяю хаос – списком. Так рождается «Список из восьми пунктов, чтобы пережить чужой переезд и не сойти с ума». Он до смешного педантичен, но только он держит меня на плаву.
1. Протереть плинтус в прихожей (убрать чужие следы).
2. Сменить воду орхидеям (вернуть контроль над жизнью).
3. Переложить зимние шарфы нафталиновыми шариками (законсервировать прошлое).
4. Проверить фильтр в чайнике (убедиться, что мы пьем чистую воду).
5. Почистить духовку (давно пора сжечь все старые обиды).
6. Разобрать буфет наверху (избавиться от того, чем мы больше не пользуемся).
7. Позвонить маме (убедиться, что я не она).
8. Дышать.
«Дышать» – последний пункт, самый сложный. Я выполняю остальные, ввинчивая себя в привычный ритм, как шуруп в стену. Когда-то это спасало. Теперь – лишь отвлекает.
Андрей пишет: «Задержусь, не жди». Коротко, функционально. Он всегда так пишет, когда дома шумно или просто сложно. Он уходит в работу, как в бомбоубежище. «Хорошо. Спасибо, что предупредил», – отвечаю я. Мы вежливы в переписке, как два дипломата на приеме, обсуждающие погоду, когда их страны вот-вот объявят друг другу войну.
Весь день квартира дышит чужой жизнью. Звуки становятся интимнее: не грохот мебели, а шорох открываемых коробок, легкий звон посуды, скрип собираемого шкафа. Они там уже раскладывают по полкам свою жизнь. Эта мысль звучит красиво и пугающе. Я ставлю чайник, хотя кофе был бы уместнее – он честнее в своей горечи, в нем нет иллюзии уюта.
Я впервые за день сажусь в кресло. Тело гудит от накопившегося, невысказанного напряжения. Я смотрю на свои руки – безупречный маникюр, спокойный бежевый лак. В этих руках – вся я: умение держать, складывать, поддерживать, не ронять. А за стеной – чьи-то руки, которые, как мне кажется, умеют только брать и разрушать. Я тут же одергиваю себя. Это несправедливо. Я ничего о нем не знаю. «Серёг», «пластинки», «аккуратнее». Это не портрет, это просто брызги краски на чистом холсте.
Звонит мама. Я говорю ей дежурное «все хорошо», и она с готовностью верит. «Главное, чтобы люди были порядочные», – наставляет она. «Порядочность» – ее главное мерило мира. Порядочные не уходят, не предают, не заставляют страдать. После ухода отца ее мир сузился до этого одного слова, и она отчаянно ищет его подтверждения в моей жизни. Я слушаю ее и механически поправляю штору, чтобы складки лежали идеально ровно. Правильно – чтобы все было красиво. Правильно – чтобы никто не догадался.
Когда темнеет, из-под соседской двери просачивается запах. Не просто еды. Запах жареного мяса со специями, мужской, сытый, немного наглый. Не запах домашних котлет, которые лепишь для семьи. Запах стейка, который жаришь для себя одного, потому что можешь себе это позволить. Этот запах проникает в мою квартиру, где пахнет только лимонным средством для мытья полов, и кажется почти непристойным.
Настасья присылает фотографию, снятую утром: пылинки, танцующие в луче света на фоне коробок. Подпись: «Дома меняются, и мы с ними». Я ставлю ей сердечко, потому что я современная мать. А потом долго смотрю на снимок, потому что я несчастная женщина, которая разучилась видеть в переменах красоту и видит только угрозу.
Нужно перебить этот чужой, самоуверенный запах. Я решаю испечь шарлотку. Запеченные яблоки с корицей – это запах детства, безопасности, запах дома, который невозможно разрушить. Это мой оборонительный рубеж. Я достаю миксер, яйца, муку. И сахарницу. Ту самую, из толстого граненого стекла, которую мы с Андреем купили в наш первый год.
Я взбиваю яйца с сахаром, и гул миксера на время создает вокруг меня кокон тишины. Я помню, как однажды, на этой самой кухне, Андрей точно так же уронил эту сахарницу. Сахар рассыпался белыми звездами по старому линолеуму. Мы смеялись, собирая его, а потом он прижал меня к стене и поцеловал. И сахар остро, сладко и запретно хрустел у нас на губах. Мне было двадцать три, и я думала, что так будет всегда.
Звонок в дверь режет тишину и память острым ножом.
Я вздрагиваю так, что ложка вылетает из рук. Миксер замолкает. В голове – паническая перекличка: не Андрей, не Настасья, не мама. Кто? В моем упорядоченном мире не бывает нежданных гостей.
Еще один звонок. Короче, настойчивее. Будто тот, за дверью, знает, что я дома. Знает и ждет.
– Иду, – голос срывается. Я делаю шаг к двери и неловко задеваю локтем стол.
И сахарница, символ нашего сладкого, хрустящего прошлого, медленно, с тихим стеклянным вздохом, сползает по столешнице. Я смотрю на нее, завороженная, не в силах пошевелиться.
Глухой удар о плитку.
Она не просто разбивается. Она взрывается. Сотни острых, как льдинки, осколков и ослепительно белый сахарный песок разлетаются по кухне. Конец. Сладость рассыпалась, оставив после себя лишь колкие, опасные кристаллы.
Третий звонок. Уверенный. Терпеливый.
Я смотрю на это белое крошево на полу – предсказание, которое я не просила. Моя крепость дала трещину. Сначала за стеной, а теперь – прямо у меня под ногами.
Я иду к двери, переступая через осколки. Руки ледяные. Внутри все сжалось в тугой, звенящий комок.
Я кладу ладонь на холодную ручку двери. Сейчас я впущу его внутрь. Не соседа. А того, кто пришел забрать последнее тепло, оставив меня одну наедине с этим сахарным пеплом и осколками моего идеального мира.
Глава 3. Первое знакомство, Ольга
Третий звонок в дверь. Он не режет воздух – он его прошивает. Уверенный, терпеливый, как удар метронома, отсчитывающего последние секунды тишины. Я смотрю на рассыпанный по полу сахар. Он блестит под лампой, как инеем покрытое стекло, – красиво и холодно. Это руины моей сахарницы. Руины моей минуты покоя. Я открываю дверь, потому что это единственное, что остается делать, когда враг уже у ворот.
Он стоит ровно так, как стоят люди, привыкшие, что им открывают: не нависая, не суетясь, оставляя мне пространство для отступления, которого у меня уже нет. На нем простая темная рубашка, которая стоит больше, чем весь гардероб моего мужа, и джинсы, сидящие с той небрежной точностью, которая бывает только у дорогих вещей и уверенных в себе мужчин. В руке – моток синей малярной ленты, единственная деталь, связывающая его с хаосом переезда.
Лицо у него не смазливое. Оно высечено из какого-то дорогого, твердого материала. И глаза… Они не смотрят, они сканируют. Он видит не меня-функцию, женщину в домашнем платье, открывшую дверь. Он видит женщину. Голод по такому взгляду – моя самая страшная, самая тайная слабость. Он смотрит прямо в глаза, и мне кажется, я слышу тихий щелчок, с которым он открывает досье: «Ольга, 38 лет. Крепость с трещиной в фундаменте».
– Извините за беспокойство, – голос у него низкий, с легкой хрипотцой, будто он им нечасто пользуется для пустых разговоров. – Я ваш новый сосед. Сергей. Я не вовремя?
«Ты катастрофически не вовремя. Ты – само воплощение несвоевременности», – думаю я. Но вслух, конечно, произношу другое. Спина выпрямляется сама собой, подбородок чуть приподнимается. Это моя броня.
– У нас в доме, – слова выходят ровные и гладкие, как камни, отшлифованные морем, – всегда вовремя. Добро пожаловать.
Он едва заметно усмехается одними уголками губ. Это усмешка игрока, который оценил твой первый ход. Он не извиняется за шум, не оправдывается – он просто принимает мое приветствие как должное. От него пахнет озоном после грозы и чем-то дорогим, вроде кожи нового автомобиля. Под его взглядом становится жарко, как под лампой для допроса.
– Простите, – повторяет он, и его взгляд скользит от моего лица вниз, к полу. Он не смотрит на беспорядок с сочувствием. Он смотрит на него с интересом. – Плохая примета?
Он видит трещину. Он сразу ее увидел.
– К уборке, – отвечаю я. Голос не дрогнул. Я горжусь этим маленьким чудом.
Это звучит почти остроумно, и на мгновение я чувствую себя живой. Той, давней, которая умела смеяться, не думая о последствиях. Сергей улыбается – на этот раз чуть шире, и в уголках глаз собираются тонкие морщинки. Он оценил ответ.
– Я за солью, – говорит он, и эта банальная просьба в его исполнении звучит как пароль для входа в тайное общество. – И хотел спросить про интернет. С утра вожусь с коробками, а без связи – как без воздуха.
Я уже разворачиваюсь к кухне, к своей правильной банке с крупной морской солью. Соль – на раны, соль – на хлеб. Соль – чтобы отвадить нечистую силу. Какая ирония.
В этот момент из комнаты появляется Андрей. Шаги тяжелые, на нем растянутая домашняя футболка, лицо расслабленное, доброе и совершенно глухое к тому электричеству, что потрескивает в воздухе коридора.
– О! Сосед! Ну, наконец-то. Вы – тот самый, кто нас сегодня с утра в чувство приводит. Андрей, – он с мальчишеским восторгом протягивает руку. Он любит новые знакомства, новые задачи, новые схемы подключения роутеров. Это отвлекает его от необходимости подключаться ко мне. Сергей пожимает его руку – крепко, коротко, но я вижу, как Андрей на долю секунды оказывается в роли просителя. – Заходите! Оля, соль!
«Оля, соль». Две функции. Два слова. А этот, чужой, смотрит так, будто готов написать о моих руках поэму.
– Ольга, – повторяет Сергей тихо, почти для себя. И мое имя, такое привычное, стершееся от ежедневного употребления, в его рту вдруг обретает вес, вкус и цвет. Оно звучит как диагноз и как приглашение одновременно. Он смотрит на меня так, будто знает, что по ночам я плачу не от обид, а от бессильной ярости на саму себя. Он видит не королеву ледяного замка. Он видит спящую красавицу и уже прикидывает, сколько будет стоить ее разбудить.
Я не краснею – я слишком хорошо себя контролирую. Но я чувствую, как кровь приливает к мочкам ушей. Я иду на кухню. Банка с солью стоит на второй полке, между банкой с рисом и банкой с гречкой – мой маленький бастион порядка. Я беру ее. Руки не дрожат. Я – дочь женщины, которая превратилась в вечную жертву. Я не позволю себе дрожать.
Мужчины тем временем уже погрузились в свой мир – мир оптоволокна и мегабит. Андрей оживился, он в своей стихии.
– Тут лучше сразу оптику тянуть. Стены старые, но это не проблема. Роутер я тебе помогу настроить, у меня такой же.
– Мне для работы важна стабильность, – отвечает Сергей. – Несколько компьютеров, стриминг… И пара камер.
– Камеры? – искренне удивляется Андрей. – Фотографируешь?
– Иногда, – уклончиво отвечает Сергей. – Люблю наблюдать.
Я протягиваю ему банку. Он берет ее осторожно, будто это не соль, а антикварная шкатулка. Наши пальцы не соприкасаются, но между ними проскакивает разряд статического электричества, и меня прошивает мелкой, колючей дрожью. Внутри что-то тихо осыпается. Не остатки сахара – там давно пусто. Осыпается моя клятва, данная себе в пятнадцать лет: никогда не быть жертвой, построить семью, которую невозможно разрушить.
– Спасибо, Ольга, – говорит он, и в его голосе благодарность звучит как обещание.
– Нам с вами через стену жить, – отвечаю я, возвращая себе контроль. – Будем солить друг другу не слишком сильно.
Он снова усмехается.
– Я всегда осторожен.
– Пойдем, – Андрей бесцеремонно хлопает его по плечу, разрушая наше хрупкое силовое поле. Он рад помочь. Рад новому приятелю. Рад уйти из квартиры, где на полу рассыпан сахар и молчит жена. – Я тебе сейчас провайдера наберу, скажу, что от меня. Роутер глянем. Оля, я на десять минут к соседу.
Я киваю. Дверь закрывается за ними, и мой дом снова наполняется тишиной. Но это уже не моя тишина. Она гулкая, как пустая раковина, в которой еще слышен шум чужого моря. Я слышу их голоса за стеной – деловитый, немного поучающий тон Андрея, который обожает быть полезным, и ровный, спокойный баритон Сергея, который не просит, а позволяет себе помогать. Мужчины нашли общий язык – язык проводов и мегабит, самый безопасный язык на свете.
Я стою посреди кухни, где на идеальной плитке рассыпан пепел сладкого прошлого. Беру совок и щетку. Острые кристаллы сахара и стекла поют под щетиной тонкую, прощальную песню. Я вытираю пол, вкладывая в движение всю свою волю – стереть, забыть, вернуть как было. Но даже когда пол снова сияет, я чувствую под ногами липкий фантомный след.
Снова звонок. Короткий, деловитый, без извинений.
Я уже знаю, кто это. И почему-то знаю, что он попросит. Не дрель, не отвертку. А нож. Самую интимную, самую опасную вещь на кухне. Знание это иррационально, как холодок по спине в пустой комнате.
Открываю.
Он стоит ближе, чем в прошлый раз. Нарушает невидимую границу вежливости ровно на полшага. Достаточно, чтобы я почувствовала тепло его тела. В руке пустая солонка – возвращенный долг.
– Простите, – повторяет он, и теперь это слово звучит не как извинение, а как начало фразы, как «слушайте». – У вас не найдется ножа? Скотч на коробках дьявольски прочный. Я верну.
Слово «нож» повисает между нами. Я отступаю на шаг, приглашая его взглядом в свой стерильный коридор, но не его самого. Он не переступает порог, и от этого его присутствие становится еще более концентрированным, как капля яда в бокале с водой.
Я открываю ящик. Ножи лежат в своем лотке, как спящие солдаты. Каждый со своим характером. Большой поварской – слишком прямолинейный. Зазубренный для хлеба – слишком агрессивный. Я выбираю маленький фруктовый нож с тонким, почти невинным лезвием. Нож, которым снимают нежную кожицу с персика. Нож, которым можно перерезать тонкую нить.
В голове вспыхивает мысль, четкая, как удар тока: «Не давать». Это голос той пятнадцатилетней девочки, которая видела, как рушится ее мир. Голос, давший клятву ничего не отдавать чужим мужчинам. Но я – взрослая женщина. Это просто сосед. Это просто скотч.
Я протягиваю ему нож, держа за рукоятку, лезвием к себе. Безопасно. Правильно. Он берет его, и наши пальцы все равно на долю секунды соприкасаются. Легкий, почти неощутимый контакт, от которого по руке бежит обжигающий холод.– Обещаю вернуть как новый, – говорит он, и его взгляд не отпускает мой.
– У ножей есть память, – срывается с моих губ. Я сама не ожидала, что скажу это вслух.
Он взвешивает нож в руке. На его запястье под кожей проступает тонкая синяя вена, и эта живая, беззащитная деталь пугает меня больше, чем его уверенный взгляд.
– Тогда верну его с новыми, более приятными воспоминаниями, – легко парирует он. – Андрей у меня, кажется, нашел свое призвание. Если будем шуметь – стучите. Не стесняйтесь.
Он не дает мне времени на ответ. Шаг назад. Поворот. Дверь напротив мягко щелкает. Игра окончена. Раунд за ним.
Я прислоняюсь к косяку. За стеной – мужские голоса, смех Андрея, довольный и расслабленный. Он счастлив. Он в мире схем и инструкций, там нет места сложным чувствам. А я стою и смотрю на свои орхидеи у окна. Один бутон полностью раскрылся – идеальный, молочно-белый, без единого изъяна. Он красив до боли. «Вы умеете заставлять капризные вещи цвести», – эхом звучат в голове его слова. Он заметил. Он увидел. Он оценил. Не мою чистоту, не мой ужин. Мою тайную страсть.
Телефон вибрирует. Сообщение от Андрея: «У соседа застрял, тут интересно! Вернусь через полчаса. Соль отдал :)». Смайлик. Он ставит их, когда чувствует себя виноватым, но не хочет об этом говорить. Я провожу пальцем по холодному стеклу экрана. Никакого ответа.
И снова стук. На этот раз – не звонок. Три быстрых, отчетливых удара костяшками пальцев. Мужской стук.
Я вздрагиваю. Открываю.
Сергей. В руке – мой маленький нож. Лезвие чистое. Он держит его правильно, острием к себе. Но не отдает.
– Вы были правы, – говорит он тихо. – Память у него теперь точно есть.
Я молчу. Воздух между нами становится плотным, его можно резать.
И тут он делает свой ход. Небрежно, будто это само собой разумеется.
– Можете на ночь не задергивать шторы. У вас из окна красивый свет падает на орхидеи. Я вчера заметил, когда вещи заносил.
Удар. Прямо в солнечное сплетение. Вчера. Он видел меня вчера. Он наблюдал. Мой дом, моя крепость, мое убежище – оказалось стеклянным.
Мой голос – единственное, что мне еще подчиняется.
– У нас тихий дом, – произношу я. Это звучит как заклинание. Как предупреждение.
– Я тоже люблю тишину, – кивает он. И наконец поворачивает нож рукояткой ко мне. – Ваш помощник. Андрей сказал, если что, обращаться к вам. Вы, говорит, все знаете.
– Я просто все помню, – отвечаю я, забирая нож.
Он теплый. Он хранит тепло его руки.
Я закрываю дверь. Прислоняюсь к ней спиной, чувствуя, как колотится сердце. За стеной раздается голос Андрея, громкий, беззаботный:
– Так какой пароль на вайфай поставим?
И ответ Сергея. Тихий, отчетливый, произнесенный так, чтобы я услышала его сквозь стену. Каждое слово – как гвоздь, вбиваемый в мою оборону.
– «Орхидея_38».
Я выпрямляюсь. Тридцать восемь. Мой возраст. Я иду к столу, беру телефон. В списке доступных сетей – новый, мощный сигнал. С замочком. Имя сети бьет по глазам наотмашь.
«Spiaschaia_koroleva». Спящая королева.
Это не вторжение. Это объявление войны. И поле битвы – я сама.
Глава 4. Зеркало, Ольга
Ванная – моя исповедальня. Моя маленькая сцена с одним зрителем в главной роли, который никогда не аплодирует. Я включаю свет над зеркалом – безжалостный, хирургический свет, от которого кожа сразу становится честнее, а ложь – заметнее. Зеркало огромное, правильно вымытое – в этом доме все правильно вымыто, – и все равно в левом нижнем углу есть крошечное пятнышко, которое никак не поддается. Я всегда оставляю его. Мое алиби. Несовершенство, на котором можно сфокусировать взгляд, если правда в отражении вдруг станет слишком прямой, слишком удушающей.
Кто ты?
Вопрос не звучит, он проступает между бровями, там, где у меня почти невидимая вертикальная морщинка. Это не морщина усталости, это след от усилия. Усилия держать фасад. От нее начинается вся география моего лица: горизонтальные линии лба – накатанные маршруты «дом—школа—магазин—дом», короткие солнечные лучи у глаз – визитная карточка вежливой женщины. И глаза. Умеют ли глаза молчать? Мои – виртуозы молчания. В них все чисто, ровно, как застеленная постель в гостевой комнате, куда никто не заходит. Только если присмотреться, на самом дне – тьма отложенного на потом крика.
Я подаю лицо ближе к холодному стеклу, выгибаю шею до боли в затылке – так смотрят на то, что боятся увидеть. Кожа у ключиц – тонкая, почти прозрачная, как рисовая бумага. Когда-то руки Андрея знали здесь каждую родинку. Теперь их не знает никто. Губы… И вот здесь память стреляет, как оголенный провод. Сегодня чужой голос произнес мое имя – «Ольга» – так, будто пробовал его на вкус, а чужие глаза задержались не на моем лице, а на этой самой коже у ворота. Глупость. Липкая, ненужная глупость, как синяя малярная лента в его руке.
– Нравиться, – произношу я шепотом, и слово кажется чужим, шершавым. Оно солоноватое. Как пот на виске после слишком быстрого подъема по лестнице. Как слеза, которую сглотнула, потому что плакать не положено по уставу.
Я давно не хотела нравиться. Я хотела – соответствовать. Быть правильно собранной, безупречно функционирующей версией себя: «жена», «мать», «хозяйка». Роли, которые я выучила так хорошо, что забыла текст своей собственной пьесы. Нравиться – это другая территория. Мягкая, опасная, болотистая. На ней женские каблуки оставляют слишком глубокие следы. На ней легко поскользнуться и упасть – не в грязь, а в саму себя.
Мама всегда смотрела в зеркало чуть сбоку, вполоборота. Чтобы не встретиться с собственной болью лицом к лицу. Она плакала тихо, беззвучно, и ее отражение в старом трюмо плыло, искажалось, как тонущий корабль. «Никогда, Оля, – шептала она. – Никогда не дай себе стать такой». Я киваю своему отражению, будто это она стоит за спиной, и слышу собственный голос, по-детски упрямый: «Никогда не быть жертвой. Никогда не позволить разрушить». А потом циничная, взрослая ядовитость добавляет: «И никогда не забывать оплатить счета вовремя, чтобы никто не остался без интернета». В списках дел я – бог. В списке желаний – атеист.
Я поднимаю волосы, закалываю их на затылке одной резкой, почти злой шпилькой. Голая шея мгновенно делает меня уязвимой. Беззащитной. Меня всегда учили: «Шея – это для своих». У меня «свои» – Андрей и тишина. Андрей больше не смотрит на мою шею. Он смотрит в свой телефон. А тишина… тишина смотрит на все. Я смотрю на открытую кожу в зеркале и думаю: «Это лишнее». И не могу опустить волосы.
Свет в ванной безжалостен к мелочам: вот тонкая сеточка капилляров на крыле носа, вот маленькое пятно на скуле – след вчерашней борьбы с собой. Взгляд… Потушенный. Я впервые позволяю себе не отводить глаза от этой правды. Не «устала», не «не выспалась», а именно «потушенная». Как свеча, которую задули, потому что ужин закончился, а разговор о главном так и не начался.
Я открываю нижний ящик – мой личный склеп, где похоронено «на потом». Там лежит красная помада в тяжелом золотом футляре. Старая, почти реликвия. Она пахнет шампанским и теми временами, когда я не боялась оставлять следы на бокалах и мужских рубашках. Я касаюсь холодного металла, и меня прошивает смешной озноб, как в детстве, когда тайком примеряешь мамины туфли: ты вдруг становишься женщиной на полсекунды раньше, чем тебе разрешили.
– Для кого? – спрашиваю я у отражения. И тут же понимаю – вопрос неверный. Правильный – «для чего?». Чтобы что? Чтобы Андрей поднял глаза от экрана? Чтобы Настасья сказала: «Мам, ты странная»? Чтобы… чужие глаза с ленивой уверенностью хищника оценили мой бунт? Этот ответ опасен. Он как трещина на льду.
Я все-таки провожу помадой по губам – один раз, небрежно, выходя за контур. И мне не идет. Или это я не даюсь? Цвет слишком наглый для моей приглаженной жизни, слишком громкий для нашего тихого дома. Он кричит. А я привыкла шептать.
Я стираю его белой салфеткой, оставляя на ней кровавый, унизительный отпечаток. Но губы под ним остаются чуть припухшими, розовыми, живыми. И вдруг, глядя на это лицо – без помады, растрепанное, со следом от стертого бунта, – я вижу, что нравлюсь себе. Не как безупречная поверхность дорогой мебели. А как человек. Живой. Теплый. Потрескавшийся. Эта мысль пугает гораздо сильнее, чем красные губы. Это значит, что клетка не снаружи. Она внутри.
Мне хочется улыбнуться – не вежливо, а по-настоящему, – и я вдруг сталкиваюсь с тем, что мышцы лица не помнят этого движения. Улыбки у меня служебные: «спасибо», «пожалуйста», «не беспокойтесь». Улыбаться себе – это почти неприлично, как есть десерт до основного блюда. Я пробую. Заставляю уголки губ поползти вверх.
И в зеркале появляется женщина, которую я знаю и боюсь. На ней мое лицо, мое тело, мои ключицы. Но в ее потушенных глазах появился блик. Опасный, живой огонек, как отблеск пламени в темной воде. Этого блика у меня давно не было.
Я замираю, глядя на этот огонек.
И тут же ледяной ужас сковывает желудок. А что, если… что, если он, тот, за стеной, сегодня смотрел не на потушенную женщину? Что, если он с самого начала увидел именно этот блик?