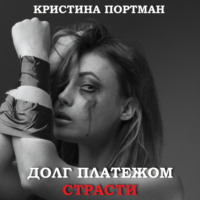Полная версия
Фатальная промашка паука
Я вспоминаю его голос – «не задергивайте шторы» – и у меня по животу проходит узкая, ледяная струйка. Это не было просьбой. Это был пароль. Секрет, которым он поделился со мной одной, поставив моего мужа за скобки. Как он посмел? И почему от этой дерзости внутри не возмущение, а тихий, постыдный трепет? Моя мать сошла бы с ума от такого соседства. Я – старательно, до последнего миллиметра, выпрямляю полотенце на сушилке. Объясняю себе: он – всего лишь мужчина с коробками и дорогим парфюмом, я – женщина с кастрюлями и орхидеями. Мы – два параллельных графика. В статистике моей жизни нет места случайным пикам, только выверенная прямая.
Я иду в спальню. Там трюмо, старое, мамино, с тремя зеркалами, которые держат тебя в заложниках, не давая солгать. Оно как трибунал: показывает тебя с фасада, с уязвимого профиля и с той стороны, которую ты сама никогда не видишь. Я поворачиваюсь: профиль. Не девичий, но четкий. Плечи – прямые, привыкшие нести невидимый груз. Осознание тела приходит как удар тока, как свет, который неожиданно включили в темной комнате. Я стою и чувствую: я – еще женщина. Не «мать», не «жена», не «стабильность». Женщина. С запахом ванили на запястьях, с легким румянцем, который не купишь в магазине. Теплая. Живая. Я, может быть, и есть та капризная вещь, которую нужно уметь заставить цвести. Только кто? И зачем мне это – цвести – если мой садовник давно забыл, как держать в руках лейку?
Я подхожу к окну. Штора – тонкая, как выцветшая тайна. За ней – привычный ночной двор: одинокий фонарь, кусты, чья-то забытая самокатная ось, похожая на сломанную скрипку. Я не задергиваю шторы. Но это не уступка. Это ответ. Маленькая, беззвучная дерзость, на которую у меня вдруг хватает смелости. Крошечная трещина в фаянсовой чашке моей идеальной жизни. Ее пока не видно никому, кроме меня.
На подоконнике орхидея тянет к лунному свету раскрытую стрелу молочно-белых цветков. Я глажу пальцем ее воздушные корни – серые, плотные, упрямые – и чувствую их тихую, живую силу. И улыбаюсь ей той самой улыбкой, которую не смогла найти в зеркале. Она честная. Она не про «нравиться», она про «быть». Может, это одно и то же? А я всю жизнь выбирала второе, считая его более приличным.
В коридоре щёлкает замок. Андрей. Я на автомате опускаю волосы, свободной рукой отводя прядь за ухо – жест из того времени, когда я еще умела краснеть, а не бледнеть. Я смотрю на себя в трюмо и вдруг вижу: я такая, какой могла бы понравиться – себе. Этого достаточно? Этого должно быть достаточно.
– Оля? – голос Андрея – усталый, но сегодня в нем нет привычной отстраненности. Просто «Оля?». Вопрос, а не констатация факта. Я выхожу в коридор, и мы встречаемся взглядами.
– Я тут, – говорю. Будто это новость.
Он разувается, ровно ставит ботинки носками к стене – его религия порядка. Мельком смотрит на меня и на секунду задерживает взгляд. Редкость. Он видит не вешалку для домашнего халата, а женщину. Может, волосы? Может, ключицы? Может, тот самый блик в глазах, который я сама только что заметила?
– Нормально день прошёл? – привычная вежливость возвращает все на свои места. Я киваю. Он кивает. Мы – два сообщника в заговоре под названием «у нас все хорошо».
– Слушай, – Андрей вдруг оживляется, и эта живость кажется неуместной, как яркий галстук на похоронах. – Я тут… позвал соседа на субботу. Чисто по-соседски. Новоселье, все дела. Я сказал, ты сделаешь свою шарлотку. Он парень нормальный, без закидонов. Да и мы… – он чуть запинается, подбирая слова, – да и нам не помешает живое общение.
Слово «позвал» падает в меня, как камень в колодец. И круги идут, идут, задевая самые потаенные стенки. Сосед. Суббота. Моя шарлотка. Моя кухня. Его глаза в моем доме. Я вдруг вижу нас троих за моим столом, как в театральной мизансцене: Андрей слева, Сергей справа, а я – посредине. Между его слепотой и его знанием.
– В субботу, – повторяю я, и слово кажется чужим, шершавым на языке.
– Да, – Андрей улыбается, довольный собой. – Договорились. Он, кстати, сейчас забежит на минуту – я пообещал отдать набор шестигранников. Ты не против? Я быстро.
Звонок в дверь раздается в ту же секунду, будто ждал этих слов. Не громко, как днем. Коротко и точно. Как выстрел. Я на секунду замираю. В зеркале напротив – мое лицо, без помады, с живыми губами, с открытой шеей и с глазами, в которых наконец-то есть свет. Он мягкий, как огонь свечи, который пока еще можно задуть одним выдохом.
– Откроешь? – спрашивает Андрей, уже двигаясь к двери.
Я делаю шаг в сторону и замираю. В трюмо, в его боковом зеркале, отражается коридор и кусочек входной двери. Я вижу, как рука Андрея тянется к ручке. И вижу его. Тень за дверью. Андрей распахивает дверь.
И я впервые за много лет встречаю собственный взгляд в зеркале – но он не мой.
Он стоит на пороге, но смотрит не на Андрея. Его глаза в зеркале находят мои глаза в зеркале. Прямое попадание. Минуя пространство, стены, моего мужа. Он улыбается так, будто это наш маленький, грязный секрет. А у меня в голове одна-единственная мысль, оглушительная, как сирена:
«Я не закрыла шторы».
Глава 5. Маленькие знаки, Сергей
У любой крепости есть режим дня. Флирт – оружие дилетантов, рассчитанное на взаимность. Я не флиртую. Я изучаю логистику. Запоминаю расписание караулов, время смены света, мертвые зоны в обзоре. Я настраиваю освещение и двигаю мебель, пока в комнате не появится правильная акустика для одного-единственного слова, которое пробьет брешь.
Ольга любит утренний свет. Ее орхидеи стоят на подоконнике не как украшение, а как почетный караул. Идеальная дисциплина белых фаленопсисов. Я выхожу на балкон с черным кофе не потому, что хочется кофе, а потому, что в восемь ноль семь солнечный луч падает на ее левое плечо, когда она поправляет лист. Я не смотрю в упор – это ошибка новичков. Я смотрю на город, на крыши, на суету внизу, и лишь краем глаза фиксирую ее силуэт. Мы просто два человека, случайно оказавшиеся в одном кадре.
– У вас орхидеи не живут – маршируют, – говорю я ровно, без подмигиваний, в тишину утра. – Так держать форму умеют только избалованные красавицы и очень дисциплинированные люди.
Она поднимает голову. На долю секунды. Холод – как тонкий лед на луже. Чистый, честный, без примесей. Мне нравится. Это проверка калибра. Края её рта не двигаются; движется только взгляд – зрачок сужается на едва заметный миллиметр. Значит, услышала. Значит, регистрирует. Она – хрупкая «балерина», играющая роль королевы в ледяном замке. Она кивает – вежливо, как кивают всем, кто хвалит их идеально выстроенный мир.
– Спасибо, – говорит. – Они требуют режима.
Режим. Мое слово. Мы с ним дружим. Я улыбаюсь коротко, без тепла.
– Люблю вещи, которые требуют режима, – произношу, как констатацию погоды.
Больше ничего. Угол атаки выбран, импульс задан – переразгон здесь вреден. Я оставляю ей тишину, как оставляют ране время затянуться. Захожу в квартиру, ставлю чашку. Пометка в голове: «триггеры – порядок, режим, контроль». И – главное – «никаких шуток». Шутки – для тех, кто хочет нравиться. Любви хотят слабые. Я хочу быть фактом ее биографии. Неизбежным, как смена сезонов.
С Андреем просто. Он – не крепость, он – ключ от ворот. Мужчины его типа сдаются технике. Говоришь ему про провайдера, про крепеж, про то, что петля у шкафа «садится» – и он уже свой. Он не видит угрозы, он видит помощь. Я щедрый сосед – идеальная роль. Он приносит мне набор шестигранников и смотрит взглядом человека, который рад, что рядом поселился не дебошир. Я не дебошир. Таких, как он, мой отец ломал, не замечая. Я же в своей жестокости предельно аккуратен.
Маршруты. В десять двадцать семь Ольга возвращается из магазина. Большие бумажные пакеты, один всегда чуть рвется по краю. В лифт она всегда заходит первой – женщина, у которой есть дом. Я выхожу в десять двадцать четыре и «случайно» задерживаюсь у почтовых ящиков. Двери разъезжаются. У нас общая коробка железа, и я держу ей створку. Простая вежливость.
– Давайте, – спокойно, без приглашения беру у нее один пакет. Вес хороший, килограммы шепчут о меню. Рис «арборио», фенхель, сливки. Кислота – лаймы. Контрапункт к ее пресной, правильной жизни. Записать. Пахнет домом, который держат в железной узде.
– Не нужно, – говорит она жестко, но не отбирает. Это верно. Она не будет устраивать сцену. Сцены – это хаос.
– И не нужно, – соглашаюсь я, – но полезно.
Она ставит второй пакет, чтобы нажать нужный этаж. Пальцы красивые, ухоженные. Не салон, а дисциплина. Ногти натуральные. Обручальное кольцо сидит привычно. Кожа на пальце чуть светлее вокруг. Она его снимает. Не для любовника. Для себя. Крошечный глоток свободы, когда никто не видит. Я знаю этот жест. Я видел его у своей матери.
Мы едем. Я не смотрю на нее – я смотрю на ее отражение в стальной стенке. Отражение безопаснее. Оно не ответит тебе взаимностью, не проявит слабость, не заставит тебя чувствовать. Ее профиль в нержавейке – честный до жестокости. Плечи прямые. Подбородок упрямый. И глаза… они гаснут, когда она думает, что на нее не смотрят. Это видно, если не моргать.
– Фенхель – смелое решение, – отмечаю я, будто сам себе. – Немногим удается не переборщить.
– Я умею дозировать, – коротко отвечает она.
Бинго. Она говорит на моем языке. Она не повар, она – аптекарь. Или химик. Она понимает толк в дозах. Это будет интереснее, чем я думал.
Двери распахиваются. Я ухожу на полшага вперед, уступая ей путь. На пороге она поворачивается. Не из благодарности – из необходимости забрать свою ношу. Я отдаю. Наши пальцы не касаются, но я почти слышу, как у нее внутри щёлкает защелка: «контакт был, касания – нет». Отлично. Мы будем работать в этой системе координат.
– Спасибо. Дальше я сама.
– Уверен, – я даю ей ровно ту улыбку, которая не спорит. – Хорошего дня.
Дверь закрывается. У меня на ладонях остается фантомный запах её кухни: лайм, сливки, чистота. Я не нюхаю ладони; это жест, который выдает дилетантов. Я иду к себе. В мастерскую. Там, среди сломанных часов и музыкальных шкатулок, я могу думать.
Она – не крепость. Она – старинная музыкальная шкатулка с безупречным лаковым покрытием. Внутри – хрупкий, нежный механизм, который играет одну и ту же выверенную мелодию. Секрет не в том, чтобы взломать замок. Секрет в том, чтобы найти крошечную, почти невидимую трещину в корпусе, вставить в нее тонкое лезвие и очень медленно, под правильным углом, повернуть ключ. И тогда она сыграет тебе любую мелодию. Один раз. Перед тем, как рассыпаться в пыль.
Следующий ход – не через день и не через час. Слишком быстро – тревога, слишком медленно – стирается фон. Я выбираю третий день, утро. Балкон. Она поливает корни по расписанию. Я выхожу без телефона. Люди подсознательно чувствуют, когда их ставят на второе место после экрана.
– Я потом возьму у вас консультацию, – бросаю через перила почти как шутку, но в голосе нет и тени юмора. – У меня с растениями не складывается. Они умирают от любви.
Она переносит взгляд через край, белый цветок качается, как маленький флаг перемирия, которого не будет.
– Их не надо любить, – говорит она, и в ее голосе та же прохладная чистота, что и в утреннем воздухе. – Их надо понимать.
Принято. Это пароль. Мы смотрим друг на друга полсекунды – ровно столько, чтобы контакт состоялся, но не перерос в близость. Я первый отвожу взгляд. Пусть она думает, что ей дали пространство. Люди всегда привязываются к тем, кто их отпускает.
Вечером возвращается Андрей – шаги тяжелые, ключи звенят с усталым металлом. Я целую минуту слушаю их кухню через стену. Не потому, что это даст информацию. Потому что звук привычки – лучший барометр семейной погоды. Сегодня погода ровная, без осадков. Превосходно. Сильные женщины скучают не от скандалов. Они гниют от ровности. Отец убивал мать не криком. Он убивал ее тишиной.
Маленький знак, еще один. Я поправляю сбившийся уголок их коврика. Мелочь. Но такие мелочи сдвигают линию фронта. Оставляю на перилах лестницы резинку для волос – нейтральный цвет. Исчезает за час. Не она. Девочка. Экосистема расшифрована: тут три роли. Одна – с телефоном. Одна – с ключами. Одна – с тишиной. Работать будем с тишиной.
Случайный магазин у дома – плохое место. Слишком много ненужных глаз. Я выбираю подземную парковку. Там у каждого действия есть звук. Скрип шин, гул вентиляции, мерный стук капель с потолка, как метроном, отсчитывающий время до сделки. Я приезжаю раньше, делаю два круга по периметру. Отмечаю камеры, слепые зоны, места, где свет делает лицо неузнаваемым. Старый профессиональный навык: всегда знай, где можно стоять спиной.
Она появляется точно по графику. Ключи уже в руке, сумка через плечо, волосы собраны. Тонкий шлейф ванили – запах уюта, который она носит как броню. Она одна. Это важно. Я стою в тени бетонной колонны, делаю шаг – не слишком близко, не слишком издалека. Так, чтобы она увидела меня вовремя, но не успела поднять щит.
– Ольга, – окликаю спокойно. Не громкостью, а концентрацией внимания.
Она поворачивается. Лицо ровное, готовое к вежливости. Идеальная поверхность. Значит, можно оставить на нем царапину. Неглубокую. Красивую.
– Хотел сказать спасибо за лифт, – начинаю с нейтральной территории. – И за терпение к шуму.
– Ничего, – отвечает она. Холод держится, как правильно замерзшая вода – прозрачный и твердый, без пузырьков воздуха.
Я киваю. И наношу удар. Маленький, рассчитанный, не под кожу, а по воздуху рядом, чтобы он зазвенел.
– Вы – очень красивая. И очень холодная, – говорю я ровно, как диктор, объявляющий погоду. Как факт природы, который не требует одобрения. – Такие женщины – самая большая загадка.
Отец обожал и уничтожал именно таких.
Тишина в гараже становится вязкой. Звук капающей воды – оглушительным. Ее взгляд… делает то, что должен. Не отводится сразу. Полсекунды она выдерживает мой взгляд, потом опускает ресницы – не из кокетства, из контроля. Уголки губ не двигаются. Превосходно. Она выбрала не ответить. Еще лучше.
– Не думаю, что нам стоит разговаривать на эту тему, – спокойно произносит она. Сталь. Без звона. И разворачивается. Щелчок центрального замка ее машины звучит как приговор.
Я улыбаюсь ей в спину. Не для нее – для себя. Отказ – не стена. Это дверца сейфа. Правильный код редко пишут на видном месте. Обычно он выгравирован на механизме внутри.
Дома я открываю ноутбук. Музыка без слов. Привычный файл: «Ольга. Наблюдения». Не потому, что забуду. Потому, что любая игра выигрывается не харизмой, а бухгалтерией. «Реагирует на порядок. Любит контролировать расстояние. Лексика: “режим”, “дозировать”. Запах: ваниль. Орхидеи: уязвимость. Муж: ресурс. Дочь: помеха». И внизу строка. Последний пункт – самый важный. Я извлек его из руин собственного детства: «Нежность – самый острый инструмент для вскрытия».
Телефон моргает. Андрей: «В субботу в семь, ждем. Я возьму вино. Ты на закуске?» Он ставит смайлик, потому что чувствует себя молодцом. Отвечаю: «Приду с сыром». Без точки в конце. Мелочь. Но игра состоит из мелочей. Ольга заметит.
Я выключаю свет, остаюсь в темноте, как ныряльщик перед погружением. Тишина за стеной дышит. Там – ее спальня. Удивительно, как быстро чужие дома становятся акустическими картами твоей охоты. На балконе орхидея, которую я все-таки купил, выглядит жалкой подделкой. И правильно. У меня цель не вырастить цветок. У меня цель – чтобы она сама захотела научить меня его не убивать.
В субботу я не опоздаю. И не приду раньше. Я появлюсь так, чтобы застать её с мокрыми руками. Разговоры в такие моменты честнее. И когда Андрей пойдет за штопором, я скажу то же, что сказал сегодня, только ближе. На полтона тише. На один шаг опаснее.
Ставлю будильник на 18:42.
И в тот же момент слышу через стену девичий голос, пронзительно-чистый: «Мам, ты любила когда-нибудь по-настоящему?»
Пауза.
Воздух между квартирами становится плотным, как стекло.
И я улыбаюсь. Не от предвкушения. А от узнавания. Этот вопрос задавал когда-то маленький мальчик, глядя на свою угасающую мать-балерину. И он до сих пор не знает ответа. Но теперь он будет тем, кто этот ответ спровоцирует.
В субботу у меня будет ключевая минута. И если я все правильно рассчитал, к концу вечера она либо перестанет закрывать шторы. Либо начнет запирать их на засов.
Оба варианта – начало игры.
Глава 6. Неприступная скала, Ольга
Паркинг пахнет бетоном, выхлопными газами и чьими-то поспешными решениями. Здесь все звуки кажутся преувеличенными: капля воды, сорвавшаяся с трубы, отдается в ребрах, как щелчок взводимого курка. Я иду по белой направляющей стрелке, как по канату. Сумка на локте, ключи зажаты в кулаке – ими можно было бы защищаться, если бы я умела. Но я умею только закрывать двери.
Я слышу его до того, как вижу. Не шаги – присутствие. Есть мужчины, от которых к воздуху примешивается легкая уверенность, как к кофе – молоко. Не сладко, но плотнее. Воздух вокруг него становится его территорией.
– Ольга, – он произносит мое имя так, будто пробует на вкус редкое вино. В этом спокойствии – небрежная власть. Я останавливаюсь, потому что вежливость – моя первая линия обороны. Мой автоматизм. Мое проклятие.
Я поворачиваюсь. Он стоит на расстоянии, которое прилично для знакомых и недопустимо для чужих. Тень от колонны делит его пополам – левая сторона в свету, правая – будто держит что-то при себе. Он улыбается едва заметно, как человек, который знает исход игры еще до ее начала. Я не верю таким улыбкам. Я видела, как мужчина с такой улыбкой уходил от моей матери, забрав с собой весь свет в доме.
– Хотел сказать спасибо за лифт в тот раз, – произносит он, будто мы обсуждаем погоду, – и за терпение к шуму.
– Ничего страшного, – отвечаю я. Мой голос ровный, как гладь воды в безветренный день. Из него невозможно вывести меня на эмоции, я сама себя с трудом вывожу на что-нибудь, кроме списков покупок. – Днем можно.
Он кивает – понимающе, взросло. Под этим кивком я вдруг ловлю тончайший ток – где-то между ключицей и сердцем. Неприятно. И одновременно – живо. Та секунда, когда ты понимаешь, что не окаменела окончательно, хотя так старалась.
– Вы – очень красивая, – говорит он ровно. Не как комплимент. Как диагноз. И добавляет вторую половину, как нож к вилке: – И очень холодная. Такие женщины, как вы, – самая большая загадка.
Звук капающей воды становится неприлично громким. Я чувствую, как позвоночник сам выпрямляется, а подбородок чуть приподнимается. Инстинкт. Рефлекс. Я ненавижу это движение в себе: словно меня попросили пройтись по подиуму, а я, забыв о приличиях, взяла и прошлась. Тщеславие – мой маленький, тщательно укрытый грех. Да, я красивая. Эта красота – результат моего труда, моей дисциплины. И да, я холодная. Этот холод – результат моего выбора. И я никому не позволю превращать мой выбор в свое развлечение.
Голод по признанию – моя уязвимость. Он нашел ее с первого раза. И это бесит.
– Не думаю, что нам стоит разговаривать на эту тему, – произношу я, вкладывая в каждое слово вес гранита. Слова ложатся, как плитка: ровно, без зазоров. – Никогда.
«Никогда» в моем рту хрустит, как лед под каблуком. Я вижу лицо мамы, ее шепот: «Никогда, Оля. Никогда не дай им победить». Мне шептать некогда. Мне надо выйти из этого разговора красивой и целой. Победительницей.
Он не обижается. Не оскорбляется. В его глазах вспыхивает огонек – не злость, а азарт. Я знаю таких. Если им закрывают дверь, они начинают оценивать прочность стен. Его лицо говорит: «Я услышал ваше “никогда”. Теперь мне интересно, сколько оно стоит».
– Принято, – он кивает, будто я оказала ему услугу. – Больше не повторится.
«Больше не повторится» из его уст звучит как «пока я не найду другой способ». Я делаю шаг, чтобы уйти, и в этот момент понимаю – в груди у меня будто кто-то незаметно прибрался: смахнул толстый слой пыли с зеркала, в которое я давно не смотрелась. От его «вы – очень красивая» у меня на секунду стало светлее. От «и холодная» – я распрямилась. Я ненавижу это признание в себе. Как орхидея, которая вдруг распускается не потому, что пришло время, а потому, что на нее кто-то слишком пристально посмотрел. Стыдно. И сладко.
Я иду к машине, не оборачиваясь. Спина прямая. Каждый шаг выверен. Я чувствую его взгляд на своих лопатках. Он не отпускает. Он изучает.
Сажусь в машину, захлопываю дверь. Звук получается слишком громким, слишком резким. Предательский звук. Я кладу руки на руль и только сейчас замечаю, что они дрожат. Совсем чуть-чуть.
И в этой тишине, в запахе кожи и моего едва уловимого парфюма, я понимаю страшную вещь. Он не просто увидел меня. Он узнал. Он увидел во мне ту пятнадцатилетнюю девочку, которая дала клятву. И теперь ему до дьявола интересно ее сломать. А самое ужасное – мне самой вдруг стало интересно, получится ли у него.
Он делает полшага в сторону – уступает дорогу. И, кажется, одновременно включает в себе какую-то тихую лампу, под которой всё становится чуть честнее, чуть опаснее. Я почти слышу, как что-то у него внутри щёлкает: «цель отмечена».
– У вас есть муж, – продолжает он уже тише, в эту бетонную тишину, где каждое слово обретает вес, – и я его уважаю. Я просто… отметил. Дальше – ваши правила.
«Мои правила». Он бросает это, как приманку, и моя гордость, мой единственный натренированный мускул, поднимает голову. У меня есть правила. Они высечены на стенах моего дома невидимыми чернилами. «Не смотреть в чужие окна. Не открывать шторы, потому что так красиво. Не брать в руки то, что не отмоется в посудомойке». И еще одно – самое старое, написанное голосом моей матери, глядящей на свое отражение в темном окне: «Не быть, как она. Не быть той, которую бросают».
– Тогда отметьте еще и это, – я смотрю ему прямо в глаза, и на секунду вижу там не мужчину, а азартного, жестокого мальчика, который привык выигрывать. – Вы никогда больше не будете говорить со мной о моей красоте и моем… климате. Ни здесь, ни у лифта, ни у меня под дверью. Никогда – слышите? – не поставите меня в позицию, где мне придется выбирать ответ.
Я сама удивляюсь, как четко и холодно умею звучать, когда мне страшно. Страх у меня всегда превращается либо в уборку, либо в инструкции. Сейчас – в инструкции.
Он молчит. Секунду. Две. Потом опускает глаза – на ключи в моей руке, на белую стрелку под ногами – и снова вверх. И улыбается так, что, не знай я лучше, решила бы, что он сдался. Но я выучила: у настоящих хищников «сдаться» – это просто занять позицию для прыжка.
– Слышу, – спокойно говорит он. – И уважаю.
Он отходит к своей машине. Его шаги – неслышные, кошачьи. Я остаюсь на месте еще на мгновение, как оркестр, который переждал аплодисменты, и только потом двигаюсь. Пальцы сводит от напряжения. Я сжимаю брелок, чтобы им было на что злиться, и иду, чеканя каждый шаг, как печать.
Внутри – монастырский холод. Чистый, высокий. И где-то в самой глубине – крошечная, подлая искорка предательства по отношению к самой себе: меня увидели. Не как функцию, а как женщину. Я делаю с этой искоркой то, что делаю со всем опасным: складываю в ящик, запираю. Ключ от этого ящика – на шее, вместе с крестиком, который подарила мама. Иногда мне кажется, что мы обе верим не в Бога, а в дисциплину.
Я сажусь в машину, завожу мотор. Радио включается на середине песни из нашего старого плейлиста – артефакт из той жизни, где Андрей обнимал меня на кухне, пока мы резали салат. Теперь песня звучит как чужая свадьба за стеной: громко, фальшиво и не про меня. Я переключаю на новости. Там всегда все хуже, чем дома. Успокаивает.
На выезде из паркинга я мельком вижу в зеркале заднего вида его силуэт. Он стоит, опершись ладонью о крышу своей машины, и смотрит не на меня – в пространство. Будто слушает эхо нашего разговора. Я нарочно поворачиваю голову, обрезая его отражение. Моя сила – в том, чтобы не оглядываться. Я – женщина, которая не падает.
Дома я мою руки – ритуал очищения после любого разговора, который подошел слишком близко к коже. Лимонное мыло пахнет контролем. Я делаю чай – не кофе. Чай учит терпению: с ним нельзя торопиться, иначе он будет горчить. Из окна видно, как вечер собирает двор в аккуратный, предсказуемый квадрат. Орхидея на подоконнике открыла еще один лепесток – белый, неприлично красивый, как внезапная, запретная мысль.
Телефон вибрирует на столе – как маленькое, настойчивое сердце. Андрей.
«Задержусь. Клиент заныл. Не жди, поужинаю чем-нибудь. Кстати, позвал соседа на субботу. Ты сделаешь свою шарлотку?»
Я читаю раз. Два. Слова бегут так спокойно, так буднично, будто это ерунда – впустить в дом человека, который минуту назад вскрыл твою оборону, как консервную банку. Будто это просто «по-соседски». Унижение – тихое, липкое – начинает подниматься от живота к горлу. Мой муж. Мой защитник. Мой соратник по строительству этой крепости.