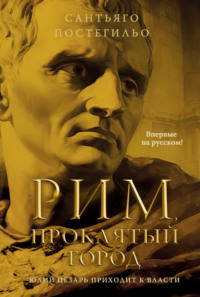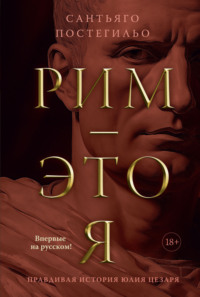Полная версия
Я, Юлия
– Сегодня император целился не так метко, как всегда, – изрекла Салинатрикс, давая понять, что он промахнулся, стреляя в Юлию.
Чтобы еще больше подчеркнуть свое презрение, супруга наместника Британии рассмеялась. Мерула и Скантилла, жена богатого сенатора Дидия Юлиана, последовали ее примеру.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
С учетом отечественной традиции, «август», когда оно используется в качестве обращения, передается как «сиятельный» (хотя самым близким аналогом будет «августейший»).– Примеч. перев. Далее примеч. автора, кроме отмеченных особо.
2
Действующие лица(лат.).
3
Предисловие(лат.).
4
От основания Рима, т. е. 197 г. н. э. Далее перевод латинских слов и выражений см. Словарь на с. 596.
5
Современный город Хомс в Сирии.
6
Книга первая(лат.).
7
Современный Лион.
8
Дион Кассий. Римская история, LXXIII, 22–23. Здесь и далее цитаты из «Римской истории» Диона Кассия приводятся в переводе А. Махлаюка. –Примеч. перев.
9
Военный лагерь, располагавшийся на Данубии (Дунае), между нынешними деревнями Петронелль и Бад-Дойч-Альтенбург, примерно в 45 километрах к востоку от современной Вены.