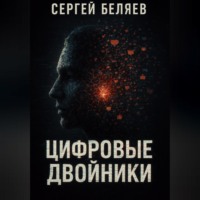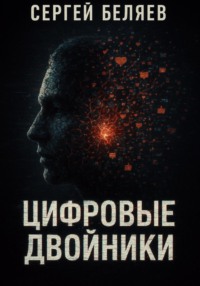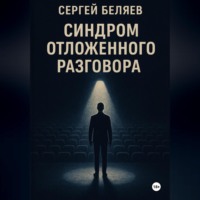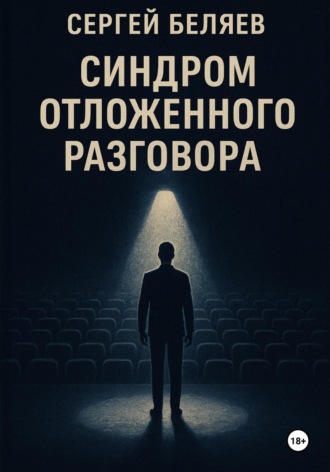
Полная версия
Синдром отложенного разговора
Суть теории проста. Для здорового развития ребенку жизненно необходима так называемая «надежная база». Это взрослый, который выполняет две ключевые функции:
* Надежная гавань: Когда ребенок напуган, расстроен, когда ему больно, он инстинктивно ищет своего взрослого, чтобы получить утешение, защиту и успокоение.
* Безопасный аэродром: Чувствуя, что у него есть эта надежная гавань, куда всегда можно вернуться, ребенок смело отправляется исследовать мир, учиться новому и становиться самостоятельным.
В течение первых лет жизни мозг ребенка, словно суперкомпьютер, собирает данные и ищет ответ на один-единственный, жизненно важный вопрос, обращенный к своему взрослому: «Когда я позову, ты придешь? Когда мне будет плохо, ты будешь рядом? Могу ли я на тебя рассчитывать?»
Ответ, который ребенок получает на этот вопрос (не словами, а действиями взрослого), формирует его внутреннюю «рабочую модель» отношений. Это глубокий, подсознательный набор убеждений о себе, о других людях и о мире в целом. Этот набор убеждений и называется стилем привязанности.
Именно этот стиль, сформированный в первые годы жизни, становится тем самым «призраком из прошлого». Он определяет, как мы будем вести себя в близких отношениях десятилетия спустя. Будем ли мы видеть в сложном разговоре угрозу вселенского масштаба или возможность для решения проблемы? Будем ли мы неделями прокручивать диалоги в голове из страха быть отвергнутыми? Или будем избегать их, считая проявлением слабости?
Давайте рассмотрим четыре основных сценария, которые мог написать для нас наш невидимый режиссер.
Четыре сценария: Как ваш стиль привязанности диктует вам молчать
Психолог Мэри Эйнсворт, коллега Боулби, разработала знаменитый эксперимент «Незнакомая ситуация», в ходе которого она наблюдала за реакцией детей на временное отсутствие матери. На основе этих наблюдений были выделены четыре основных стиля привязанности. Прочитайте их описания и попробуйте честно прислушаться к себе: какой из этих сценариев кажется вам наиболее знакомым?
1. Надежный стиль привязанности (Сценарий: «Мир безопасен»)
* Как формируется: Ребенок растет со взрослым, который в целом последователен, доступен и отзывчив. Когда ребенок плачет, его утешают. Когда ему страшно, его защищают. Его эмоции признаются и не обесцениваются. Он знает: «Если я позову, мама придет».
* Основное убеждение: «Я хороший и достоин любви. Другие люди в целом надежны и отзывчивы. Просить о помощи – это нормально».
* Связь с СОР: Люди с надежной привязанностью в наименьшей степени страдают от СОР. Это не значит, что они любят сложные разговоры, но они не видят в них экзистенциальной угрозы. Для них конфликт – это не предвестник катастрофы, а решаемая задача. Они способны напрямую говорить о своих потребностях и чувствах, потому что в их базовой прошивке записано: «Выражать себя – безопасно. Даже если мы поссоримся, отношения не разрушатся». Они могут готовиться к разговору, но они не застревают в руминации, потому что их мозг не воспринимает ситуацию как угрозу выживанию. Это тот здоровый стандарт, к которому мы будем стремиться.
2. Тревожный стиль привязанности (Сценарий: «Я должен тебя удержать»)
* Как формируется: Ребенок растет со взрослым, который непоследователен. Иногда он теплый и отзывчивый, а иногда – холодный, отстраненный или занятый своими проблемами. Ребенок никогда не знает, какую версию родителя он получит. Чтобы получить любовь и внимание, ему нужно постоянно «цепляться», быть «хорошим», угадывать настроение.
* Основное убеждение: «Я не уверен, что достоин любви просто так. Чтобы меня не бросили, я должен постоянно прикладывать усилия и следить за состоянием другого. Другие люди непредсказуемы, и их можно легко потерять».
* Связь с СОР: Это прямой путь к тяжелой форме СОР. Главный страх человека с тревожной привязанностью – страх отвержения и покинутости. Любой сложный разговор для него – это гигантский риск.
* «Если я скажу ему, что мне не нравится, как он проводит время с друзьями, он решит, что я пила, и бросит меня».
* «Если я попрошу начальника о повышении, он поймет, что я слишком многого хочу, разочаруется во мне и уволит».
Их внутренний театр – это бесконечная драма, полная катастрофических сценариев, где любой неверный шаг ведет к разрыву. Они прокручивают диалоги сотни раз, пытаясь найти «идеальные», абсолютно безопасные слова, которые точно не спровоцируют отказ. Но таких слов не существует, поэтому разговор откладывается бесконечно. Их руминация подпитывается страхом одиночества. Часто они терпят до последнего, а потом «взрываются» потоком накопленных обид (это называется «протестное поведение»), чем еще больше отталкивают партнера и подтверждают свой глубинный страх.
3. Избегающий стиль привязанности (Сценарий: «Мне никто не нужен»)
* Как формируется: Ребенок растет со взрослым, который стабильно эмоционально холоден, отстранен или отвергает потребности ребенка в близости. Когда ребенок плачет, ему говорят: «Не ной, будь сильным». Его попытки получить утешение игнорируются или даже вызывают раздражение. Ребенок усваивает урок: «Показывать свои чувства и потребности – бесполезно и опасно. Рассчитывать можно только на себя».
* Основное убеждение: «Я должен быть сильным и независимым. Эмоции – это слабость. Другим людям доверять нельзя, они все равно подведут. Близость – это ловушка, которая лишает свободы».
* Связь с СОР: У этих людей СОР проявляется иначе, но не менее разрушительно. Они откладывают разговоры не столько из страха отвержения, сколько из глубинного дискомфорта перед любой эмоциональной близостью.
* Они избегают разговоров о чувствах, о будущем отношений, о совместных планах, потому что все это для них – «телячьи нежности» и угроза их самодостаточности.
* В работе они могут быть прекрасными исполнителями, но будут до последнего откладывать разговор, где нужно попросить о помощи или признать свою ошибку, ведь это равносильно признанию своей несостоятельности.
Их внутренний театр – это не драма, а немое кино. Они не прокручивают эмоциональные диалоги. Вместо этого они прокручивают стратегии, как вообще избежать разговора. Как сделать так, чтобы проблема «рассосалась сама собой». Их молчание – это защитная стена, которую они возводят вокруг себя, чтобы никто не мог подобраться слишком близко.
4. Дезорганизующий (тревожно-избегающий) стиль привязанности (Сценарий: «Подойди ближе… Отойди!»)
* Как формируется: Это самый болезненный сценарий, который часто связан с травматическим опытом (пугающее поведение родителя, насилие, хаос в семье). Источник утешения (родитель) одновременно является и источником угрозы. Ребенок находится в ситуации «неразрешимого парадокса»: он инстинктивно тянется к взрослому за защитой, но сам взрослый его и пугает.
* Основное убеждение: «Я хочу близости, но она смертельно опасна. Я не доверяю ни себе, ни другим. Мир – это хаотичное и страшное место».
* Связь с СОР: Это самая хаотичная и мучительная форма СОР. Человек с дезорганизующей привязанностью одновременно и хочет, и боится разговора.
* Его внутренний мир – это поле битвы между отчаянной потребностью в контакте и паническим страхом перед ним.
* Он может днями репетировать разговор (как тревожный тип), а в последний момент все бросить и спрятаться (как избегающий). Его поведение выглядит противоречивым и непредсказуемым. Он может сам инициировать разговор, а потом саботировать его.
Их внутренний театр – это авангардная постановка, полная абсурда и трагедии, где главный герой то зовет партнера на сцену, то в ужасе убегает от него.
Эхо в настоящем: Как детский сценарий разыгрывается со взрослыми
Ваш мозг ленив в хорошем смысле этого слова. Он любит использовать старые, проверенные нейронные пути. Та «рабочая модель» отношений, что сформировалась у вас в детстве, становится шаблоном, который мозг автоматически накладывает на все значимые отношения в вашей взрослой жизни.
* Начальник легко превращается в фигуру критикующего или вечно недовольного родителя.
* Романтический партнер становится тем, от чьей непредсказуемой реакции зависит ваше выживание.
* Друзья – это те, чьего отвержения нужно избежать любой ценой.
Вы можете быть 40-летним успешным профессионалом, но в момент, когда ваш босс хмурит брови, ваша лимбическая система мгновенно регрессирует, и вы снова становитесь 5-летним ребенком, который боится наказания. Вы не осознаете этого, но ваше тело помнит. Ваша амигдала помнит. И она запускает ту же самую реакцию – замереть, спрятаться, промолчать.
Особенно ярко эти сценарии проявляются в так называемом «танце тревожного и избегающего». Люди с этими двумя стилями привязанности необъяснимым образом притягиваются друг к другу, создавая мучительный, но очень устойчивый союз. Тревожный партнер отчаянно ищет близости и подтверждения любви. Избегающий партнер воспринимает это как удушение и отстраняется. Чем сильнее отстраняется избегающий, тем отчаяннее тревожный пытается «поговорить» и «все выяснить». Чем сильнее пытается поговорить тревожный, тем дальше убегает избегающий. СОР становится центральным элементом их отношений, где один откладывает разговор из страха быть брошенным, а другой – из страха быть поглощенным.
От актера к драматургу
Возможно, читая эти строки, вы испытали целый спектр чувств: узнавание, грусть, может быть, даже злость. Это нормально. Это значит, что мы докопались до чего-то очень важного.
Позвольте мне еще раз повторить: мы здесь не для того, чтобы судить. Ваши родители, скорее всего, делали лучшее, на что были способны, и сами являлись заложниками сценариев, написанных для них их родителями.
Наша задача – в осознании. В том, чтобы увидеть невидимого режиссера и вежливо сказать ему: «Спасибо за вашу работу. Вы помогли мне выжить тогда. Но сейчас я вырос, и я хочу сам стать автором своей пьесы». Психологи называют это «обретенной надежной привязанностью». Исследования показывают, что взрослый человек способен сознательно изменить свой стиль привязанности через самоанализ, терапию и опыт здоровых, поддерживающих отношений.
Эта книга – один из инструментов для обретения такой надежности. Осознав свой сценарий, вы перестаете быть его рабом. Вы получаете выбор. И в следующих главах мы продолжим анализировать другие слои нашего психологического наследия, чтобы затем, во второй части, перейти к созданию совершенно нового сценария для вашей жизни.
Упражнение для Дневника Отложенных Разговоров:
Это упражнение требует тишины, уединения и максимальной честности с собой. Отнеситесь к нему не как к тесту, а как к медитации.
* Вспомните себя в возрасте 6-8 лет. Постарайтесь представить конкретную ситуацию, когда вы были чем-то расстроены, напуганы или обижены. Что вы сделали? Побежали к маме или папе? Спрятались в своей комнате? Старались сделать вид, что ничего не случилось?
* Какой была типичная реакция ваших родителей на ваши «негативные» эмоции? (Выберите то, что больше подходит, или напишите свой вариант).
* А) Меня утешали, обнимали, говорили, что все будет хорошо.
* Б) Иногда утешали, а иногда раздражались или говорили, что у них нет на это времени.
* В) Мне говорили: «Хватит реветь», «Будь мужчиной», «Не выдумывай».
* Г) Реакция была непредсказуемой и иногда пугающей.
* Прочитайте еще раз описания четырех стилей привязанности. Какой из них (или какая комбинация) вызывает у вас наибольший отклик? Не анализируйте, а прислушайтесь к внутреннему ощущению.
* Возьмите один из ваших главных отложенных разговоров. Попробуйте предположить, какой «призрак из прошлого» стоит за вашим страхом. Например: «Я боюсь говорить с партнером о будущем, потому что это эхо моего тревожного стиля. Я боюсь, что он, как и моя мама, будет то доступен, то холоден, и я снова буду чувствовать себя в подвешенном состоянии».
Это непростая работа. Будьте бережны к себе. Ваша цель – не поставить себе диагноз, а лишь начать замечать те невидимые нити, которые связывают ваше сегодня с вашим вчера.
Глава 8. Тирания «Что, если?»: Тревожность как главный сценарист СОР
Представьте, что в вашей голове живет сценарист. Он невероятно талантлив, плодовит и работает 24 часа в сутки. Но есть одна проблема: он пишет сценарии исключительно в жанре «фильм ужасов» и «катастрофа».
Вы только подумали: «Нужно поговорить с партнером о том, что он снова не помыл посуду», а сценарист уже выдает вам готовый синопсис:
«Сцена 1: Вы начинаете разговор. Партнер тут же взрывается, обвиняя вас в мелочности. Сцена 2: Разговор перерастает в грандиозный скандал, где вам припоминают все ваши грехи за последние пять лет. Сцена 3: Партнер кричит: "Если тебя все не устраивает, может, нам вообще не стоит быть вместе?!" Сцена 4: Дверь хлопает. Вы остаетесь в одиночестве, в слезах, посреди горы грязной посуды, которая разрушила ваши отношения. Конец».
Или вы думаете: «Надо бы попросить у начальника отгул на следующую пятницу». А сценарист уже строчит новый блокбастер:
«Сцена 1: Вы подходите к начальнику. Он смотрит на вас ледяным взглядом. Сцена 2: Он отвечает, что сейчас самый завал, и ваша просьба – верх безответственности. Он не говорит этого вслух, но вы видите это в его глазах. Сцена 3: Он начинает сомневаться в вашей преданности компании. Сцена 4: При следующем сокращении ваша кандидатура – первая в списке. Вы оказываетесь на улице, без работы и средств к существованию, и все из-за одной пятницы».
Этот сценарист – ваша Тревожность. И ее любимый творческий прием, ее коронный вопрос, с которого начинается любая катастрофа, – это зловещее «Что, если?..».
«Что, если он обидится?», «Что, если она откажет?», «Что, если я буду выглядеть глупо?», «Что, если все станет только хуже?». Эта бесконечная ментальная шарманка и есть двигатель руминации и главный поставщик топлива для Синдрома отложенного разговора. Тревожность маскируется под «осмотрительность» и «ответственную подготовку». Она уверяет вас, что, проигрывая самые страшные сценарии, она помогает вам «быть готовым ко всему». Но это ложь. На самом деле она лишь парализует вас, заставляя поверить, что воображаемая катастрофа – это единственно возможное будущее.
В этой главе мы выведем этого горе-сценариста на чистую воду. Мы изучим его любимые «спецэффекты» и «клише» – то, что в когнитивно-поведенческой терапии называется когнитивными искажениями. Мы научимся отличать его выдумки от реальности. Потому что только поняв, как вас обманывают, вы сможете перестать покупать билеты на эти бесконечные сеансы ужасов.
Страх и Тревога: В чем разница?
Прежде чем вскрывать инструментарий нашего сценариста, давайте определимся с понятиями. Мы часто используем слова «страх» и «тревога» как синонимы, но с точки зрения психологии и нейробиологии это разные явления.
Страх – это реакция на конкретную, реальную, непосредственную угрозу.
Вы идете по темной аллее, и на вас из кустов выскакивает огромная собака. Ваше сердце колотится, в кровь выбрасывается адреналин – это страх. Он полезен. Он заставляет вас отпрыгнуть, замереть или убежать, то есть спасает вам жизнь. Страх ориентирован на настоящее.
Тревога – это реакция на неопределенную, воображаемую, будущую угрозу.
Вы сидите дома и думаете о том, что завтра вам возможно придется идти по той же темной аллее, и там может быть собака. Ваше сердце колотится, в крови повышается уровень кортизола – это тревога. Она заставляет вас сидеть и прокручивать в голове сценарии встречи с этой собакой. Тревога ориентирована на будущее.
Синдром отложенного разговора – это на 99% царство тревоги. Реальной угрозы в настоящем моменте нет. Начальник сидит в своем кабинете. Партнер смотрит телевизор. Никто на вас не нападает. Но ваш мозг реагирует так, как будто катастрофа уже происходит, потому что тревожность рисует ему эту катастрофу в самых ярких красках.
Страх говорит: «Собака здесь! Действуй!».
Тревога шепчет: «А что, если завтра здесь будет собака? А что, если она будет еще больше? А что, если она тебя укусит?..».
Наша задача – научиться распознавать этот шепот.
Инструментарий сценариста: Разоблачение когнитивных искажений
Когнитивные искажения – это систематические ошибки мышления. Это привычные, автоматические способы интерпретировать реальность, которые наш мозг усвоил в прошлом (часто в связи с нашим стилем привязанности). Они похожи на кривые зеркала в комнате смеха: отражение в них вроде бы ваше, но пропорции чудовищно искажены. Проблема в том, что тревожность заставляет нас верить, что это и есть реальность.
Давайте рассмотрим самые популярные «спецэффекты», которые использует ваша тревожность, чтобы превратить обычный разговор в фильм-катастрофу.
1. Катастрофизация (Спецэффект: «Снежный ком апокалипсиса»)
Это главный инструмент нашего сценариста. Он берет одно небольшое негативное событие и раскручивает его до вселенской катастрофы по принципу «снежного кома».
* Как это работает: Вы берете реалистичную, но маловероятную худшую возможность и обращаетесь с ней так, как будто это самый вероятный исход.
* Пример Олега (разговор о зарплате):
* Начальная мысль: «Я хочу попросить о повышении».
* Запуск катастрофизации: «А что, если он откажет? Это будет так неловко. Я буду чувствовать себя униженным. После этого он будет ко мне придираться. Он решит, что я нелояльный сотрудник. При первом же удобном случае он меня уволит. В нашем городе мало вакансий, я не найду работу. Я не смогу платить ипотеку. Меня выселят из квартиры, и я умру под мостом».
* В чем искажение: Логическая цепочка построена на серии допущений, вероятность каждого из которых крайне мала. Но в сознании Олега отказ в зарплате и смерть под мостом оказываются почти синонимами.
* Вопрос для проверки реальности: «Хорошо, а каков самый реалистичный исход? Не самый лучший и не самый худший, а самый вероятный? Например: "Он скажет, что сейчас нет бюджета, но мы вернемся к этому через полгода". Могу ли я пережить такой исход?»
2. Чтение мыслей (Спецэффект: «Я знаю, о чем ты думаешь, негодяй!»)
Это любимый прием тревожности для создания злодеев. Вы не предполагаете, а просто знаете, что другой человек думает о вас что-то плохое, не имея для этого никаких реальных доказательств.
* Как это работает: Вы приписываете другим негативные мысли и мотивы, а затем реагируете на свои собственные домыслы как на факты.
* Пример Анны (разговор с Кириллом):
* Начальная мысль: «Мне нужно сказать ему, что я чувствую себя одинокой».
* Запуск чтения мыслей: «Но я же знаю, что он подумает. Он подумает: "Опять она выносит мне мозг! Вечно ей все не так. Какая же она нудная". Он сидит с таким лицом, потому что ему со мной скучно. Он точно жалеет, что мы вместе».
* В чем искажение: Анна не имеет ни малейшего доступа к мыслям Кирилла. Она интерпретирует его нейтральное (или даже усталое) выражение лица через фильтр своей собственной неуверенности. Она спорит не с реальным Кириллом, а с карикатурным персонажем, которого сама же и создала в своей голове.
* Вопрос для проверки реальности: «Какие у меня есть доказательства, что он думает именно так? Существуют ли другие, более вероятные объяснения его поведению? (Например, он устал на работе, у него что-то болит, он просто задумался)».
3. Предсказание будущего (Спецэффект: «Хрустальный шар отчаяния»)
Этот прием тесно связан с предыдущими. Вы выступаете в роли оракула, который абсолютно уверен, что будущее будет негативным. Ваше предсказание воспринимается не как одна из версий, а как неоспоримый факт.
* Как это работает: Вы делаете негативный прогноз и живете так, как будто он уже сбылся.
* Пример Михаила (разговор с отцом):
* Начальная мысль: «Завтра я попробую спокойно сказать отцу, чтобы он не критиковал мою работу».
* Запуск предсказания: «Но зачем? Это бесполезно. Я знаю, чем все кончится. Он все равно не поймет. Он разозлится, назовет меня неблагодарным, мама расстроится, обед будет испорчен. Ничего не изменится. Так было всегда, и так будет всегда».
* В чем искажение: Михаил принимает свой прошлый опыт за непреложный закон природы. Он отказывается даже от попытки, потому что заранее вынес приговор будущему. Он лишает себя и своего отца шанса на то, что в этот раз что-то может пойти иначе.
* Вопрос для проверки реальности: «Действительно ли я могу предсказывать будущее со 100% точностью? Были ли в моей жизни случаи, когда я ожидал худшего, а все прошло не так уж и плохо? Что я теряю, даже не попытавшись?»
4. Черно-белое мышление (Спецэффект: «Все или ничего!»)
Этот прием превращает любой диалог в саперную операцию. Либо полный триумф, либо сокрушительное поражение. Никаких полутонов.
* Как это работает: Вы оцениваете ситуацию в крайних категориях: «идеально» или «ужасно», «успех» или «провал».
* Пример Олега: «Если мне повысят зарплату ровно на 30%, как я хочу, это будет успех. Если повысят на 20% или скажут "давай позже" – это полный провал и унижение».
* Пример Анны: «Если после нашего разговора Кирилл не станет идеальным, чутким партнером, значит, разговор был бессмысленным провалом».
* В чем искажение: Такое мышление игнорирует весь спектр возможных промежуточных, частичных и просто «нормальных» исходов. Оно устанавливает настолько высокую планку для «успеха», что любая реальная развязка почти наверняка будет воспринята как «провал».
* Вопрос для проверки реальности: «Существует ли что-то между абсолютным успехом и полным провалом? Какой результат я мог бы считать "достаточно хорошим"? Какой маленький шаг вперед уже будет лучше, чем ничего?»
Сбор труппы: Как искажения работают вместе
Редко когда сценарист использует только один спецэффект. Обычно он собирает целую команду, и они усиливают друг друга, создавая мощный, убедительный и абсолютно лживый нарратив.
Давайте посмотрим, как это выглядит на практике.
Ситуация: Марина хочет попросить свою подругу Олю вернуть долг в 5000 рублей, который та брала месяц назад.
Сценарий, написанный Тревожностью:
* «Надо напомнить Оле о долге. Но я знаю, что она сейчас подумает: "Какая же Марина мелочная, из-за такой ерунды напоминает!"» (Чтение мыслей).
* «Что, если у нее сейчас нет денег? Она обидится, что я лезу не в свое дело. Наша дружба испортится навсегда из-за этих несчастных 5000 рублей» (Катастрофизация).
* «Я уверена, что разговор будет ужасно неловким, и мы обе будем чувствовать себя отвратительно. Это точно будет провал» (Предсказание будущего + Черно-белое мышление).
* «Я уже сейчас чувствую себя ужасно, просто думая об этом. Это верный знак, что разговор будет плохим» (Эмоциональное обоснование – мы не разбирали его подробно, но суть его в том, что «если я это чувствую, значит, это правда»).
* Вывод: «Лучше я промолчу. Дружба дороже денег».
В результате Марина не просто откладывает разговор. Она уже обижена на воображаемую Олю за ее воображаемые мысли, расстроена из-за воображаемого провала и чувствует себя плохой подругой. Реальная Оля в это время может просто забыла про долг и с радостью бы его вернула.
Увольнение сценариста
Цель этой главы – не в том, чтобы вы перестали испытывать тревожные мысли. Это невозможно. Цель в том, чтобы вы перестали им автоматически верить.
Ваша задача – развить в себе внутреннего «скептика» или «редактора», который, читая очередной сценарий от вашей Тревожности, будет не в ужасе хвататься за сердце, а спокойно говорить: «Так, я вижу, здесь вы использовали "катастрофизацию", а вот тут – дешевый трюк с "чтением мыслей". Неубедительно. Давайте перепишем, основываясь на фактах, а не на домыслах».
Осознание и маркировка этих искажений – это первый, гигантский шаг к освобождению. Вы начинаете видеть разницу между событием и вашей интерпретацией события. Вы понимаете, что страдаете не от реальности, а от историй, которые сами себе рассказываете.
Во второй части книги мы перейдем к более продвинутым техникам работы с этими мыслями. Но уже сейчас, вооружившись этим знанием, вы можете начать отлавливать ложь в своем внутреннем эфире. Вы больше не беспомощный зритель. Вы – критик, который пришел на премьеру с блокнотом и острым карандашом.
Упражнение для Дневника Отложенных Разговоров: «Детектив искажений»
* Выберите один из самых тревожащих вас отложенных разговоров.
* Выпишите в столбик все-все мысли, страхи, опасения и «Что, если?», которые приходят вам в голову по поводу этого разговора. Пишите все, даже то, что кажется глупым или иррациональным. Не редактируйте. Ваша задача – выгрузить весь «сценарий» на бумагу.
* Теперь возьмите «лупу» – список когнитивных искажений из этой главы. Напротив каждой вашей мысли-страха напишите, какое искажение (или несколько) вы в ней распознали.