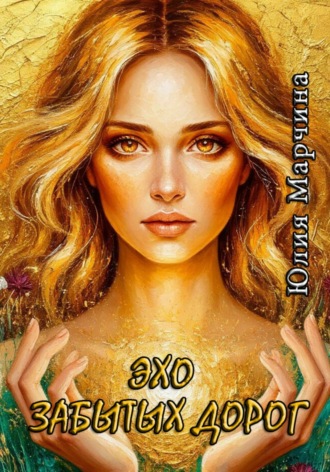
Полная версия
Эхо забытых дорог
Я потёрла лоб – голова начинала ныть. Несильно, но ощутимо.
– У нас есть ещё филиал музея, посвящённый Максиму Ильичу Калистратову. Знаете такого? – спросила Вера, следуя за мной к выходу. – Философ, писатель, художник, мыслитель. Мистик, экстрасенс, предсказатель. Удивительная личность своей эпохи. Он имел здесь дачу на берегу озера, недалеко отсюда. Его творчество тесно связано с этими местами.
Я покачала головой. Мне хотелось побыстрее остаться одной и обдумать произошедшее. Слушать про Калистратова совсем не хотелось, что не ускользнуло от чуткого взгляда собеседницы:
– Экспозицию можно посетить и в другой раз, – мягко улыбнулась она.
Я поблагодарила Веру Игоревну за экскурсию и спросила, есть ли у них такси. Бежать назад не было ни сил, ни желания. Да и страшновато было, чего уж там.
Такси не оказалось, но она показала мне остановку автобуса, который, к счастью, отправлялся через пятнадцать минут. Я перевела ей деньги за билет, взамен любезно предложенной ею налички.
– Приходите с паспортом, – предложила Вера, улыбаясь. – Запишетесь в библиотеку, у нас много интересной литературы, в том числе немало изданий об истории этих мест.
Я пообещала вернуться и оформить читательский билет, и попрощались мы совсем по-дружески.
Как доехала домой, толком и не помнила – дремала всю дорогу. Тренькнуло уведомление электронной почты – заявка на догазификацию одобрена. Надо ехать в Пореченск в МФЦ заключать договор. Что ж, отлично! Заодно запишусь и сделаю МРТ и ЭЭГ головного мозга. Страшно, конечно, и недешево, но эти обследования, надеюсь, наконец-то прояснят причину моих галлюцинаций.
***
Электричка в Пореченск отправлялась трижды в день. Я ехала на самой ранней. За спиной – рюкзак, на голове – бейсболка, защищающая от утреннего солнца, а на ногах – любимые беговые кроссовки. Их я купила специально для тренировок, чтобы одни были только для бега, другие – для долгих прогулок. Мысль о беге вызывала болезненные воспоминания. Всего два дня прошло с той моей загадочной истории с забегом в Алексеевку. Теперь это казалось опасным предприятием: легко было угодить под машину или утонуть в болоте, ведь я до сих пор не помню, как добралась до библиотеки. Да и пульс зашкаливал до экстремальных значений – скорее для опытных спортсменов, чем для новичков вроде меня. А ведь так хотелось бегать, тем более что начало получаться.
Я зевнула. Эти две ночи были беспокойными. В одинокой темноте старого дома было жутковато, да и сны не давали покоя. То бродила по бесконечным анфиладам комнат, ища что-то неуловимое, то пробиралась сквозь лес, спотыкаясь о корявые корни деревьев.
…Электричка прибыла, и я сошла на небольшой перрон, испещренный асфальтовыми заплатами. Город встретил меня широкими лужами и прохладным ветром, несущим запахи листьев и влажных стен старинных домов. Недавно прошел дождь.
Я шла по улицам, погруженным в утреннюю меланхолию выходного дня. Центральная артерия города, до сих пор носящая имя вождя пролетариата, местами была вымощена неровной брусчаткой. Вдоль нее выстроились старинные купеческие дома с покосившимися балконами и резными фасадами, покрытыми трещинами старой краски. Выглянувшее солнце бросило густую тень от старых деревьев на тротуары, создавая уютные островки спокойствия.
На перекрестке двух узких улочек возвышался небольшой особняк, чья монументальность и строгие формы классицизма приковывали взгляд. Нынешнее его предназначение выдавали окна, заклеенные рекламными объявлениями: здесь ютились офисы и конторы. Именно сюда мне и предстояло отправиться. Поход в МФЦ обернулся сорока минутами ожидания, пока юная, явно недовольная девушка за стеклянной перегородкой заполняла бумаги, сканировала и копировала мои документы.
…Посреди площади возвышалась статуя Ленина – молчаливое напоминание о советском прошлом. Потускневшая, с мелкими сколами, она казалась неуместным артефактом, затерянным в стремительно меняющемся времени.
Вдохнув аромат свежей выпечки, я миновала мини-рынок, где бойко торговали продуктами и всякой всячиной для дома, и оказалась перед высоким металлическим крыльцом. Оно торчало из стены медицинского центра, словно нелепый, чужеродный аппендикс.
Интерьер клиники выглядел современно и стильно, словно перенесённый из Петербурга в провинциальный городок. И цены вполне себе соответствующие. Очередей не наблюдалось. На ресепшене очень загорелая администратор оперативно оформила документы. Я заполнила небольшую анкету, и меня пригласили.
Медсестра усадила меня в кресло, откинув спинку в полулежачее положение, и надела смешную шапочку с электродами. Впрочем, смешного в этом было мало – скорее, нарастала тревога и напряжение. Доктор, лысеющий мужчина в очках, начал расспрос, собирая анамнез и сверяясь с моей анкетой. Я соврала, что мой столь пристальный интерес к собственному мозгу вызван частыми и сильными головными болями.
– Ранее к неврологу не обращались?
– Так вот, как раз сделаю электро… эээ… ЭЭГ и МРТ – и пойду. Не с пустыми же руками, – продолжала я бодро врать, стараясь сохранить невозмутимый вид.
Доктор неопределённо хмыкнул, и мы начали.
Процедура заняла около пятнадцати минут. Аппарат мерно пищал, я старалась не накручивать себя. Наконец, меня освободили, и я уселась, напряжённо ожидая результатов. Доктор кивал, изучая распечатку.
– Ммм… Всё в порядке, в пределах возрастной нормы. Никаких отклонений или аномалий. В заключении напишу подробнее. Головные боли, вероятнее всего, вызваны стрессом или переутомлением, – заключил он.
Затем меня проводили в другое помещение. Там я переоделась в выданный одноразовый халат, не снимая белья. О металлических застёжках, украшениях и фурнитуре меня предупреждали заранее – на мне ничего этого не было. На мгновение мой взгляд задержался на безымянном пальце, где ещё недавно красовалось обручальное кольцо. После разговора с Сергеем я сняла его, словно отказываясь от брачных обязательств. Но, приехав в Ромашино, пришлось надеть его вновь, опасаясь любопытных взглядов местных. Они мгновенно замечали такие детали, а я не хотела, чтобы фиаско в личной жизни стало объектом сплетен. Прикоснувшись пальцем к тому месту, где раньше было кольцо, я снова ощутила укол грусти и пустоту. Решительно тряхнув головой, я прогнала ненужные воспоминания. Сейчас это неважно.
Я легла на стол, напоминающий оборудование космического корабля. Голову зафиксировали для минимизации движений, дали инструкции, и стол плавно заехал в тоннель томографа. Я лежала в аппарате с закрытыми глазами. Он гудел и пощелкивал. Женщина-врач рекомендовала расслабиться, лежать с закрытыми глазами, но не засыпать. Это было непросто: вдруг МРТ покажет опухоль или повреждённую зону мозга. Как и любой нормальный человек, накануне я начиталась в интернете о всевозможных ужасах и теперь надеялась не услышать самого страшного.
Процедура заняла около двадцати минут. Когда аппарат завершил сканирование, я почувствовала огромное облегчение. Выезд из аппарата напоминал возвращение из космоса на Землю, где меня ожидали ответы на волнующие вопросы. Врач сообщила, что результаты будут готовы через двадцать-тридцать минут, и велела ожидать в коридоре, на диванчике.
…Я вышла из медцентра, крепко сжимая в руках конверты с результатами МРТ и ЭЭГ. Сердце колотилось, ладони вспотели. Обе диагностики показали одно и то же: мой мозг абсолютно здоров.
Я остановилась на крыльце, всматриваясь в бездонное синее июльское небо. Значит, опухоли нет, инсульта нет, сосудистых патологий нет. Неврологических заболеваний тоже. Следовательно, причина моих галлюцинаций – психическое расстройство. Это осознание было обескураживающим и жутким. Вероятно, это шизофрения. Поздновато проявилось, но такое случается, хоть и редко.
Я медленно брела по улице, ощущая, как лето теряет краски, уступая место серой пустоте. Мысли закружились безумным вихрем. Что теперь делать? Сдаться психиатру, пройти обследование, начать принимать препараты? Это казалось невыносимо стыдно. Или же я действительно видела прошлое? Ведь я не могла знать, как выглядела церковь до разрушения, и никогда раньше не видела кабинет старика. Факт: мои галлюцинации отразили реальные события!
И тут меня пронзил внутренний голос: «Нет, это не может быть шизофрения. Это что-то другое. Что-то, что требует исследования и понимания. Таблетки успеешь начать глотать. Попробуй докопаться до сути. Шизофреник не может вызывать усилием воли, сознательно у себя галлюцинации. Нужен эксперимент!»
Ну что ж, вот она какая – стадия отрицания. Пройдёт рано или поздно. Одно ясно: как бы там ни было, работать с детьми я дальше не имею морального права. Как объяснить причины увольнения? Особенно матери. А как зарабатывать, на что жить? Вопросы без ответов роились в моей голове, пока я решительно шагала к вокзалу.
…В замызганном окне электрички мелькали деревья, поля, станционные постройки. Всего несколько месяцев назад я была обычной, благополучно замужней горожанкой. Теперь же оказалась в деревне, одна и, возможно, неизлечимо больна.
Но раскисать было нельзя. Пока ехала в Ромашино, в голове выстроился четкий план. Первым делом – вернуться в Алексеевку сегодня же. Библиотека и музей работают в выходные, я проверила. Мне нужно снова попасть в музей-усадьбу, внимательно изучить экспозицию, особенно кабинет помещика, и запечатлеть детали обстановки.
Далее – записаться в библиотеку. Там я возьму или почитаю краеведческую литературу, чтобы глубже понять историю уезда. Параллельно поищу в интернете и библиотеке книги об осознанном трансе и природе моих видений: это некий флэшбек или нечто иное?
Далее – посещение музея Калистратова. Сегодня или позже, как успею. Возможно, там найдутся материалы, связанные с изучением трансцендентных явлений.
Самое неприятное – разговор с заведующей. Отработала-то всего месяц. Нужно уволиться из детского сада, придумав приемлемую причину для увольнения. Объяснить, что мои личные обстоятельства изменились, и я больше не могу выполнять работу.
Самое неприятное – разговор с заведующей. Я проработала всего месяц. Нужно уволиться из детского сада, придумав уважительную причину. Объяснить, что личные обстоятельства изменились, и я больше не могу выполнять работу.
Следующий этап – самый непонятный и пугающий, но и самый интересный. Эксперимент. Попытаться сознательно вызвать состояние транса, чтобы убедиться: это не симптом психического заболевания, а какая-то местная аномалия. В конце концов, есть же Бермудский треугольник. Возможно, и здесь происходит что-то паранормальное.
ГЛАВА 6
Я вошла в ромашинский дом и окинула его взглядом, словно потенциальный покупатель, оценивая каждый уголок. Интерьер был скромным: старая мебель, выцветшие обои, потолки с небольшими огрехами покраски. Отсутствие водопровода и канализации, конечно, минус, но газ я планировала провести в ближайшее время. Зато тётка успела установить стеклопакеты, а отец недавно отремонтировал крышу – это несомненные плюсы. Забор частично состоял из профлиста, а частично – из старой сетки-рабицы. Расположение дома казалось идеальным: большое село с магазинами, почтой, железнодорожной станцией, а рядом – река и озеро.
Взвесив все «за» и «против», я пришла к выводу, что дом, несмотря на изношенность, вполне реально продать. Небольшой косметический ремонт и обновление забора могли бы значительно повысить его привлекательность.
Наскоро пообедав курицей с картошкой, тушёной в мультиварке, я отправилась на автобусную остановку. Кстати, мультиварка, найденная в кладовке, оказалась подарком от нас тёте Ане на юбилей. Она так и пролежала в коробке, в заводской упаковке, ни разу не использованная.
Автобус, поднимая клубы пыли, мчался по грунтовой дороге в сторону Алексеевки. Я тряслась на задрипанном пассажирском сиденье, наблюдая, как за окном поля сменяются поросшими лесом пригорками. На горизонте показались первые деревянные домики, возвещая о приближении деревни.
Я вышла на остановке и, пройдя немного по улице, ведущей к озеру, оказалась у библиотеки. Дальше дорога сворачивала, а слева, чуть вдали, между вековыми ясенями и дубами, серебрилась водная гладь – озеро Флога. Я была здесь лишь однажды, лет в четырнадцать. Бабушка тогда впервые отпустила меня с друзьями на велосипедах. Строго-настрого наказав далеко не заплывать и попугав водоворотами, она всё же позволила нам провести там целый день. Озеро в том месте оказалось мелким: мы долго шли по колено в воде, прежде чем смогли по-настоящему поплавать. Оно было невелико – противоположные берега виднелись отчётливо. Кое-где на них мелькали крыши деревушек, а местами раскинулся густой лес.
Стряхнув нахлынувшие воспоминания, я вошла в знакомые двери террасы-портикa с белёными колоннами.
– Рада снова вас видеть! – поприветствовала меня Вера Игоревна, добавив: – Была уверена, что вы вернётесь!
Сегодня она была с двумя косами, уложенными вокруг головы, и в свободном хлопковом сарафане. Обменявшись любезностями, мы поднялись на второй этаж, где располагалась экспозиция краеведческого музея. Я заплатила символическую сумму за два входных билета – за этот визит и прошлый.
– Сфотографировать? Конечно, можно, – разрешила Вера, когда я, не мешкая, направилась к фотографии интерьера кабинета хозяина усадьбы. – Почему вас именно это фото так заинтересовало?
– Я правильно понимаю, на фото Андрей Алексеевич, а не его прадед Иван? – я сделала вид, что вопроса не расслышала. – А об Иване Дмитриевиче сохранилось что-то?
– Да, это Андрей. Об Иване Дмитриевиче есть лишь немногочисленные упоминания современников в письмах, да и в дневнике Андрея Алексеевича встречаются воспоминания со слов деда, который был старшим сыном Ивана. В основном, это перечень его заслуг по рачительному хозяйствованию и преумножению капиталов.
– А вот про крепостных девушек и разврат вы что-то говорили? – я почувствовала себя неуютно, задавая этот вопрос. Мне казалось, такой интерес к пикантным подробностям жизни давно умершего мужчины совсем меня не красит.
– Да, – поморщилась Вера. – Есть сведения о том, что помещик Иван Дмитриевич Алексеев пользовался бесправием крепостных девушек в известном смысле. Существуют воспоминания крестьян, зафиксированные со слов его бывших крепостных. Якобы, он отправил законную супругу с детьми в старую усадьбу, а здесь, в поместье, имел бесчисленных наложниц из числа крепостных. Беременных девушек отсылал в отдалённые деревни, чтобы скрыть рождение внебрачных детей. Но барин, пишут, был добрый: почем зря не секли дворню. Фавориток щедро одаривал.
Я почувствовала, как к лицу приливает краска, и Вера, заметив моё смущение, продолжила с улыбкой:
– Впрочем, после революции, когда были зафиксированы эти воспоминания со слов очевидцев, очернять дворян было вполне обычным делом. Аристократы и буржуазия часто становились мишенями нападок и клеветы. Вспомните, как много говорили о царе Николае Втором и его семье, как изображали их на карикатурах. Чаще всего такие истории были преувеличены или вовсе выдуманы на волне классового недовольства.
Я кивнула, понимая, что истина, скорее всего, где-то посередине. Затем я внимательно осмотрела другие экспонаты. Здесь были представлены предметы крестьянского быта, разнообразная утварь и орудия труда, например, прялка, очень похожая на ту, что хранилась на чердаке моего дома в Ромашино. Была также экспозиция, посвящённая строительству Николаевской железной дороги с макетами паровозов, коллекция самоваров, плетёные изделия, изящная старинная посуда, предметы одежды и обуви, швейные машинки, музыкальные инструменты. Отдельный стенд был посвящён Великой Отечественной войне… Я так увлеклась, что совершенно забыла о главной цели своего визита.
Вспомнив о ней уже внизу, я сфотографировала застеклённое изображение Троицкой церкви до её разрушения. Вера помогла мне зарегистрироваться на портале электронной библиотеки, объяснив, как пользоваться сервисом.
– Рекомендую почитать оцифрованную книгу Максима Ильича Калистратова «Явления множественных жизней». Это редкое издание, но сейчас нам доступно почти всё – какое счастье, не правда ли? – отметила она, отправляя мне ссылку. – Он, конечно, мистик, но столько потрясающих подробностей о нашем крае сложно найти где-либо ещё.
Я согласилась и поблагодарила Веру, тут же занося всю информацию в заметки телефона. Теперь у меня были ключи к разгадке этой истории.
– Жаль, в музей Калистратова сегодня уже не успею, – с сожалением посмотрела я на экран смартфона.
Вера Игоревна на мгновение задумалась, но тут же её лицо озарилось улыбкой.
– Почему же? – она испытующе взглянула на меня. – Если вам действительно интересно, я могу устроить всё наилучшим образом.
– Не хотелось бы вас утруждать, – я всё ещё не понимала, к чему она клонит.
Она махнула рукой, призывая к терпению, и быстро набрала номер:
– Виктор Степаныч, дорогой, ты ещё в Алексеевке? Ага, хмм… У меня тут одна знакомая… Да. Очень хочет посмотреть дачу Калистратова. Поможешь?
Я смиренно ждала, доверившись судьбе, которая, казалось, благоволила моему желанию докопаться до сути. Вера, положив трубку, торжествующе посмотрела на меня.
– Договорились! Виктор Степанович Мерлов – художник, резчик по дереву, автор картин и графических работ, а по совместительству смотритель музея Калистратова во Флогино. Он сейчас в Алексеевке, отвезёт вас сам и всё покажет.
– Во Флогино!? Я думала, музей в Алексеевке.
– Нет, – покачала головой Вера. – Максим Ильич Калистратов имел дачу во Флогино, и именно там расположен музей. Это недалеко. Как раз успеете на вечерний автобус. Сегодня выходной, Степаныч приезжал по делам, теперь вас и захватит.
– Неудобно как-то, – замялась я. – У человека выходной, а тут я.
– Что вы! – Вера заливисто рассмеялась. – Он у нас настоящий поклонник творчества и личности Калистратова. Его хлебом не корми, дай рассказать об этом. А в музее обычно не то чтобы толпы посетителей. Сейчас он придёт и отвезёт вас.
…Я сидела в маленькой деревянной лодке, покачиваясь на ласковых волнах озера Флога. Тяжесть старенького оранжевого спасательного жилета давила на плечи. Весла Виктора Степаныча, словно крылья, мягко рассекали зеркальную гладь воды, оставляя за собой мерцающий след. Озеро, безмятежное, как сон, отражало бирюзовую высь неба и густую зелень леса.
Берега утопали в пышных зарослях ивы, лишь изредка уступая место живописным пляжам с белым песком. Справа тянулись поросшие лесом холмы, слева – бескрайние поля, плавно перетекающие в цветущие луга. Солнце мягко касалось воды, создавая на поверхности танцующие блики. Воздух был напоен тишиной и умиротворением.
Виктор Степанович оказался кряжистым мужчиной, вероятно, немного за пятьдесят, с шевелюрой, чуть тронутой сединой, и эспаньолкой. Его клетчатая рубашка была заправлена в синие холщовые штаны на подтяжках. В молодости, без сомнения, этот человек был необычайно хорош собой.
Некоторое время вокруг царила тишина, нарушаемая лишь тихим плеском вёсел и редкими криками чаек. Словно изучив меня внимательным взглядом своих тёмно-карих глаз, Виктор Степаныч вдруг разговорился. Он с удивительной лёгкостью перескакивал с засолки огурцов на тонкости пчеловодства, от разведения кроликов к секретам композиции в живописи.
Я решила воспользоваться моментом и расспросить его об усадьбе Алексеевых и самих помещиках. Осторожно завела разговор об Иване Дмитриче. «Говорят, он был тираном и абьюзером, жестоко обращался с крепостными девушками», – произнесла я, стараясь не выдать своего любопытства.
– Ах, ну что вы! – покачал головой Виктор Степаныч. – В XVII и XVIII веках редкий состоятельный помещик не использовал своего положения для удовлетворения любовных страстей. Такова уж природа человека! Понимаете, они рождались и умирали, обладая полной властью над самой жизнью других людей. Мало кто в таких условиях способен совладать с низшими проявлениями своей натуры. Кто знает, как бы поступили вы или я, окажись на его месте?
– Не так уж и плох был этот Иван Дмитриевич, получается? – отчего-то мне показалось это важным.
– Милая барышня, я стараюсь никого не осуждать и не оценивать! Каждый топчет свою дорогу в своих лаптях. Плох или хорош – жил как умел и как получалось. Большинство так и живёт поныне, даже не мысля категориями добра и зла.
Музей Калистратова располагался в отреставрированном деревянном особняке, выкрашенном в нежный голубой цвет, с резным кружевом белых наличников. Бывшая дача, окружённая сосновым бором, возвышалась прямо на крутом берегу озера, откуда открывался захватывающий вид. Отдав Виктору Степановичу, который мило отнекивался, сумму, превышающую стоимость входного билета, я отправилась осматривать экспозицию. Смотритель, деликатно покашливая, не мешал мне, но стоило лишь поискать его взглядом, как он тут же появлялся, готовый ответить на любой вопрос.
В первом зале были представлены полотна кисти Калистратова: пейзажи, портреты, эскизы, созданные во время экспедиций. Здесь же хранились документы, связанные с его путешествиями по Сибири и Востоку.
Второй зал был посвящён философским трудам и записям, сделанным в период его жизни во Флогино. Здесь он размышлял о природе сознания, тонких материях и энергетических полях.
Особый интерес вызвала третья комната, посвящённая спиритизму и трансперсональным исследованиям. На стенах висели схемы, чертежи каких-то загадочных приборов, предназначенных для изучения паранормальных явлений.
Калистратов, вдохновляясь работами русских мистиков и западных исследователей, стремился объединить философию, религию и науку, создавая свою уникальную систему взглядов на мир.
Изучая экспонаты, я подумала, что, возможно, моя версия об аномалиях этих мест не так уж далека от истины. Оказывается, были и другие люди, которые пытались их изучить и понять.
***
Вечер окутал деревню густым мраком. За окном царила непроглядная тьма, лишь на шоссе, чуть в стороне, горели одинокие фонари. Они подмигивали редким автомобилям и тяжёлым грузовикам, которые грохотали по местами разбитому асфальту.
Свет настольной лампы заливал уголок комнаты мягким, тёплым сиянием, создавая островок уюта и спокойствия. Я сидела за столом, погружённая в изучение электронной версии книги Максима Ильича Калистратова «Явления множественных жизней». Всю неделю, прошедшую с поездки в Пореченск, Алексеевку и Флогино, я каждый вечер допоздна изучала краеведческую литературу.
Оставалась нерешённой проблема – необходимость разговора с заведующей детского сада о своём уходе. Объяснений с матерью тоже было бы не избежать, поэтому я малодушно отложила этот вопрос на ближайшее будущее.
Возобновила пробежки. Втянулась, и мне действительно понравилось ощущение бодрости и силы в теле после них. Но бегала аккуратно и недалеко, без музыки в наушниках, прислушиваясь и присматриваясь вокруг. В рощу и далее по грунтовке я не рисковала бежать, всё больше – вокруг улицы, огородов, по берегу реки.
Краеведческую литературу я уже прочитала, выискивая интересную мне информацию. Узнала много нового об истории этих мест: о людях, их быте и обычаях, о важных событиях ушедшей эпохи, но ничего глобально важного мне не открылось. Подробнее узнала о строительстве и разрушении Троицкой церкви, изучила немного историю рода Алексеевых, который восходит к предку, служившему под командованием Ермака Тимофеевича. После победных экспедиций в Сибирь он получил земли и титулы, передав их своим потомкам. Алексеевы стали крупным феодальным родом, занимаясь земледелием и торговлей. Они внесли значительный вклад в развитие инфраструктуры региона, строительство храмов и школ.
Теперь же предстояло изучить книгу Калистратова. Начиналась она с трогательного:
«Посвящаю сей труд моей неизменной советчице и помощнице, возлюбленной супруге Лидии Ивановне, чьими заботливыми стараниями осуществилось всё задуманное мною. Лидушка, за твоё усердие и преданность, за постоянную поддержку и участливое внимание, за деятельное содействие в изыскании и систематизации собранных сведений, составлении чертежей, подготовке опытов и обработке добытых результатов благодарствую сердечно и искренне! Без твоего участия сей труд никогда не увидел бы свет. С любовию, твой благоверный и верный друг М.И. Калистратов».
Меня охватило желание увидеть фотографии. Открыв альбом с оцифрованными пожелтевшими снимками, я была поражена красотой Лидии Ивановны, особенно на девичьих портретах. Максим Ильич тоже предстал интересным мужчиной: статный, с красивыми глазами и римским профилем. Глядя на их совместные фотографии, от юности до зрелости, я остро ощутила быстротечность и неумолимость времени.
Книга оказалась непростой: мудрёный стиль, обилие устаревших терминов и витиеватые конструкции. Я то пролистывала страницы, то перечитывала их по нескольку раз. Пока я только начинала разбираться в материале, не зная, к чему это приведёт.



