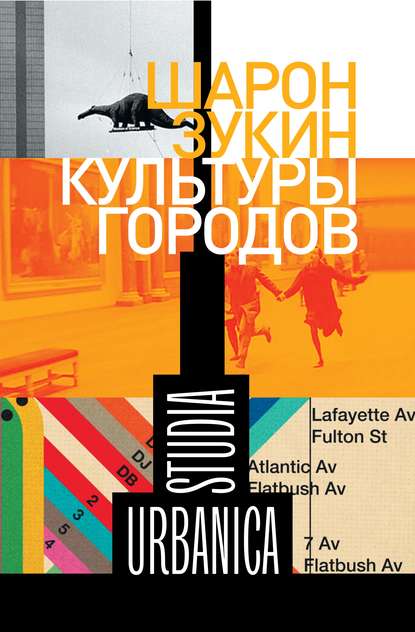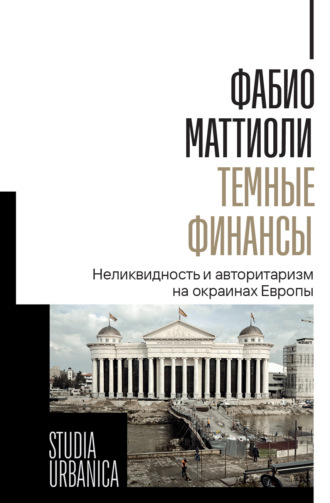
Полная версия
Темные финансы. Неликвидность и авторитаризм на окраинах Европы
Если Македония не скатилась к открытой войне, как многие ее соседи, то только благодаря умелому руководству ее первого президента Киро Глигорова и его консолидированной сети бывших социалистических соратников. В бытность свою министром финансов, Глигоров разработал ряд конституционных реформ в Югославии и договорился о реструктуризации долга в период конца 1970-х – начала 1990-х. Эти международные связи помогли Глигорову добиться мирного вывода могущественной Югославской народной армии из Македонии. Но они же позволили Глигорову взаимодействовать с сетями бывших секретных агентов и руководителей импортно-экспортных операций и снабжать Македонию ресурсами, необходимыми для того, чтобы создать резервы для ее национальных банков и обеспечить другие критически важные услуги, включая доставку лекарств, топлива и продовольствия, ранее поставлявшиеся другими югославскими республиками.
Влияние Глигорова, однако, было недолгим. После того как в 1994 году он был выведен из игры в результате взрыва автомобиля, к власти в Македонии в первые годы переходного периода пришел Социал-демократический союз Македонии (СДСМ). Под руководством Бранко Црвенковского СДСМ ускорил процесс приватизации промышленности. Некомпетентные или нечестные менеджеры, поддерживаемые СДСМ, обанкротили сотни предприятий и присвоили доходы, что привело к потере тысяч рабочих мест. Одновременно македонцы оказались отрезанными от региональных и европейских рынков из-за Балканских войн и двух эмбарго, наложенных Грецией. Находясь на грани экономического коллапса, Македония столкнулась с отказом Греции признавать ее название[37], отрицанием существования македонской нации Болгарией и нежеланием Сербии признавать независимую Македонскую православную церковь. Македонские граждане, прежде свободно перемещавшиеся по миру со своими красными югославскими паспортами, вдруг оказались в экономической и политической изоляции, а свобода от социализма обернулась контрабандным ввозом и вывозом ресурсов из маленькой страны, в которой они были заперты, как в ловушке[38].
Тогда как македонцы пытались самоорганизоваться в неформальной экономике, политические элиты последовали совету международных организаций, которые ратовали за вступление страны в Европейский союз (ЕС) как наилучшее экономическое и политическое решение, способное покончить с финансовой стагнацией. Чтобы стать кандидатом на вступление в ЕС, правое и левое правительства сократили госдолг, провели структурные реформы, снизили госинвестиции и гармонизировали юридические и экономические нормы страны с европейскими. К 2006 году, когда был избран Груевский, страна считалась образцом в проведении неолиберальных реформ в Восточной Европе и следующим кандидатом на членство в Организации Североатлантического договора (НАТО). Но в 2008-м все изменилось. На саммите НАТО в Бухаресте, на заре финансового кризиса, Греция наложила вето на вступление Македонии в альянс и сигнализировала о своей готовности сделать то же в переговорах о вступлении в ЕС. После такого унижения Груевский сменил приоритеты[39]. Время постсоциалистической жесткой экономии кончилось.
(Не)ликвидность и режим
Сложно оценить, был ли саммит НАТО 2008 года переломным моментом в отношениях Груевского с Западом или он просто ускорил уже запущенный процесс становления авторитаризма. Ясно, однако, то, что жизнь при правлении Груевского радикально отличалась от того, что граждане переживали в период политического распада и финансовой фрагментации, свойственных для начала транзита. Режим Груевского парадоксально походил на процесс частичного возрождения: отдельные (репрессивные) направления политики использовали финансы, чтобы распространить влияние и централизовать македонское государство, а также внедриться в межличностные и неформальные отношения, ставшие пространством солидарности и смысла в предыдущие десятилетия.
Эта необычная конфигурация власти была отчасти результатом неустойчивого положения Груевского. В 1990-х его политическая клика занимала относительно маргинальные позиции. Связи его семьи с кругами олигархов и сотрудников спецслужб, которые возникли в результате транзита, были ослаблены смертью его дяди Йордана Миялкова. Между 1997 и 2002 годами Груевский, занимая пост министра финансов, сумел обзавестись личными связями и ресурсами, чтобы начать собственное восхождение к власти. Однако только с глобальным финансовым кризисом Груевский и его клика получили возможность преодолеть и замаскировать свое недостаточно центральное положение среди серых кардиналов постсоциалистического периода.
В отличие от стран, где стремительное развитие финансовой сферы облегчило наращивание чрезмерного долга, банковская система постсоциалистической Македонии была очень консервативной. До глобального финансового кризиса международные инвесторы, фонды и даже такие организации, как Всемирный банк и МВФ, проявляли мало интереса к этой стране, предпочитая другие, более прибыльные рынки, – и эта изоляция позволила сделать вывод, что Македония выстояла в шторме «с минимальным воздействием на местную экономику»[40]. В ходе глобального финансового кризиса, однако, неолиберальный стиль Груевского и брендинговые кампании его правительства обратили на себя внимание международных инвесторов. Пока обрушивалась архитектура глобальной ликвидности, македонское правительство сумело получить доступ к инвестициям от акторов, либо заинтересованных в диверсификации своих портфелей, либо стремящихся предотвратить распространение на Балканах долгового кризиса, который уже успел посеять хаос в Греции.
Существенная порция нового государственного долга была направлена на крупномасштабные строительные проекты. Задуманные как способ стимулировать сектор в кризис и повысить международную узнаваемость Македонии, «китчевые» и «неэффективные» городские проекты, такие как «Скопье-2014», вызывали опасения относительно способности Македонии выплатить свои долги. Чтобы поддерживать видимость бюджетной дисциплины, Груевский и его режим разработали хитроумные стратегии отложенных платежей, навязанных кредитов и нестандартных государственных (суб)контрактов. Для олигархов эти условия работали хорошо, поскольку открывали возможности для «творческих» способов отъема собственности. Однако в случае менеджеров и рабочих небольших компаний обещанное Груевским обогащение часто означало эксплуататорские условия труда, из-за которых они теряли и время, и деньги.
Сорвавшиеся сделки и ускользающие богатства, которые отмечали этот все более неравный контекст, заставили многих бизнесменов объяснять разнообразные финансовые неурядицы, мнимые банкротства и быстрое обогащение влиянием ВМРО-ДПМНЕ. Как теневой оператор финансов Македонии режим Груевского казался разрастающейся политической сущностью, призрачной силой, которая получила контроль и расширила свое влияние на македонское государство настолько, что могла повлиять на любую сделку. Подпитываемая фактами и слухами, неликвидность оказалась элементом атмосферы страха и надежды, которые граждане связывали с режимом Груевского, стала экономическим выражением палимпсеста из коллективных ожиданий, тенденций кредитования и политических интриг.
На базовом уровне чудовищная форма неликвидности, существовавшая в Македонии, отражала разворот потоков международных кредитов от частного сектора к государственному, вслед за глобальным финансовым кризисом. Но македонская неликвидность также воплощала собой второй, политический процесс. Отложенные платежи и несостоятельные сделки понимались как ясное доказательство авторитарного присутствия Груевского в повседневных явлениях – почти что инструмент, диагностирующий его растущую власть над македонским обществом. С точки зрения рабочих, бизнесменов и граждан, живущих в стагнирующей постсоциалистической экономике Македонии, неликвидность подкрепляла и усиливала тревоги, противоречия и другие формы социальной уязвимости – это третье, экзистенциальное социальное измерение, с помощью которого неликвидность наполняла личные отношения унынием и бесплодными ожиданиями.
Эти три аспекта неликвидности, отражающие глобальное преобразование кредита, цепочку политических зависимостей и экзистенциальные сомнения, определили постсоциалистическую форму политической магии – политическую и экономическую конъюнктуру, которая сделала режим Груевского реальным не вопреки, а благодаря его противоречиям. Одновременное присутствие и отсутствие денег позволило авторитарному правлению Груевского стать материальным, конкретным и цельным. Обещание финансовых расчетов с глобальными державами и их постоянная отсрочка сделали из Груевского необходимую фигуру, сакральную, почти демоническую сущность, чьи финансовые связи держали македонцев в удушающих путах. Неликвидность оправдывала режим Груевского на эмоциональном уровне, через надежду на восстановление гендерных прав, которые не могли осуществиться в полной мере. Так режим достиг апогея своего существования, скрывшего финансовые и политические опасения в слоях экстрактивного угнетения. В ситуации безысходности неликвидность превратила режим Груевского в последнюю надежду граждан. Покорившись ему и режиму ВМРО-ДПМНЕ, македонцы надеялись выбраться со свалки истории.
Далее, таким образом, последует рассказ о противоречивых отношениях, которые позволили Груевскому опираться на особую форму финансиализации, в которой запутанные, нежелательные и централизованные потоки долговых средств составляли «нормы и механизм власти»[41]. Ликвидность определяет процесс познания, в котором материальные техники, дискурсы и устройства нормализуют как риск, так и «мнимое чувство безопасности и оптимизма»[42]. В свою очередь неликвидность, понятая не как владение активами или форма знания, позволяющая продать активы на рынке, а как набор навязанных кредитных отношений, формировала безнадежную, полупрозрачную оценку геополитического контекста существования Македонии как столкновения между постсоциалистической периферией и глобальным финансовым кризисом[43].
В обстановке, полной противоречий, неликвидность превратилась в непредсказуемую пляску ситуативных и эксплуататорских финансовых связей, которые никого не могли обмануть, но были повсеместными из-за кажущегося отсутствия альтернативы. Экзистенциальные надежды, страхи и формы лишения собственности, сконцентрированные вокруг неликвидности, поддерживали авторитаризм на плаву. Как конъюнктура конъюнктур неликвидность стала предпосылкой, а также одним из следствий централизованного правления Груевского, финансовым пространством между обещанием и реальностью, между надежностью патернализма и реальностью насилия, благодаря которой ВМРО-ДПМНЕ казалась вечной – пока не кончилась.
Обзор глав
До 2015 года авторитарный режим Македонии упоминался в международных СМИ главным образом в связи с проектом «Скопье-2014». Происхождение и обоснование проекта, состоявшего из сотен новых зданий и статуй, прославляющих выдуманное эллинистическое и необарочное прошлое, были покрыты тайной. С тех пор предпринимались расследования, чтобы выяснить, сколько он стоил, какие компании выиграли контракты и кто из архитекторов предложил китчевую эстетику плана. Глава 1 рассказывает другую, скрытую историю – она о том, как теневые дельцы вступают в сговор с бывшими тайными агентами, замышляя разрушить бывшие социалистические предприятия и инвестировать во множество объектов недвижимости в Скопье. Глава описывает финансовые сети, находящиеся в центре строительного бума в Скопье, их связь с потребностью в иностранной валюте в социалистическую эпоху и их ключевую роль в поддержке политических амбиций Груевского. Проследив их траекторию в переходный период, глава показывает, как урбанизированная среда стала волшебным устройством, с помощью которого отмываются грязные деньги и двусмысленные властные отношения превращаются в национальную идентичность.
Македония в постпереходный период – это страна, бедная природными ресурсами, с высокой безработицей и небольшим количеством отраслей, создающих добавленную стоимость. Откуда же пришли средства на «Скопье-2014» и другие государственные инвестиции в проекты, связанные со строительством? Глава 2 разбирает международные условия, которые благоприятствовали и структурировали приток капитала в Македонию, фокусируясь на двух столпах финансовой экспансии на периферии (то есть на прямых иностранных инвестициях / ПИИ и фондах помощи). В ней описывается, почему международные инвесторы и организации решили предоставить средства македонскому правительству, несмотря на недостаток доверия, которое характеризовало глобальную экономику. Глава также прослеживает скитания группы итальянских инвесторов, пытавшихся ускользнуть от глобальной неликвидности, перехватив международные инвестиции в Македонии. Их истории описывают местные, ориентированные на ренту структуры, созданные правлением Груевского, и иллюстрируют, как ЕС, внутри которого нарастает неравенство и разобщенность, порождает финансовые периферии и поддерживает авторитарные режимы.
Каким образом международные кредиты преобразовались во власть внутри страны для правительства Груевского? В главе 3 я исследую особенности внутренней финансиализации Македонии, концентрируясь на кризисе неплатежей, последовавшим за глобальным финансовым кризисом, который способствовал возвращению сделок натурального обмена, известных в стране как «компенсация» (макед. компензациja). Намечая траекторию компенсации после социализма и ее связь с македонской банковской системой, глава описывает, как компании, не связанные с политикой, получают платежи товарами, которые им не нужны. Эти объекты, например квартиры или яйца, теряют ценность, обязывая бизнесы либо принимать убытки, либо избавляться от этой собственности, передавая ее субподрядчикам и рабочим. Описывая политическое принуждение и следующее за ним изъятие собственности, глава показывает, что компенсация представляет собой форму навязанного кредита, полностью встроенного в глобальные финансовые потоки. На периферии европейской и мировой финансовой системы необходимость конвертировать стоимость из одного средства оплаты в другое позволяет авторитарным режимам усиливать свою власть, проникая глубоко в человеческие социальные связи.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Нынешнее название государства – Северная Македония, однако в момент написания диссертации Маттиоли и публикации английской книги оно носило название Республика Македония.
2
Pitluck A. Z., Mattioli F., Souleles D. Finance Beyond Function: Three Causal Explanations for Financialization // Economic Anthropology. 2018. 5. № 2. Р. 157–171.
3
Mattioli F. Debt, Financialization, and Politics // A Research Agenda for Economic Anthropology / Ed. by J. Carrier. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2019. Р. 56–73.
4
Гильфердинг Р. Финансовый капитал. Новейшая фаза в развитии капитализма. М.: Гос. изд-во, 1922. Относительно сближения индустриальной и финансовой элит в Италии в 1930-х гг. см. Mattei C. E. Austerity and Repressive Politics: Italian Economists in the Early Years of the Fascist Government // European Journal of the History of Economic Thought. 2017. 24. № 5. Р. 998–1026; и в США 1970-х гг. см. Ki Y. Industrial Firms and Financialization in Late Twentieth-Century America. Presented at the 30th Annual SASE Conference, Global Reordering: Prospects for Equality, Democracy, and Justice, Doshisha University, Kyoto, June 23–25.
5
Джованни Арриги полагает, что причина финансиализации лежит в ослаблении гегемонии, когда падение прибылей в доминирующих государствах тормозится релокацией производства, инвестициями в ВПК и колониализмом, что приводит к учащению международных конфликтов (Arrighi G. The Long Twentieth Century: Money, Power, and the Origins of Our Times. London: Verso, 1994. P. 27–84). См. также Люксембург Р. Накопление капитала. М.; Л.: Гос. соц. – экон. изд-во, 1934; Harvey D. The New Imperialism. New York: Oxford University Press, 2003; Harvey D. Limits to Capital. New York: Verso, 2007; Пикетти Т. Капитал в XXI веке. М.: Ad Marginem, 2016.
6
Langley P. The Everyday Life of Global Finance: Saving and Borrowing in Anglo-America. London: Oxford University Press, 2008. P. 20–41; Martin R. Financialization of Daily Life. Philadelphia: Temple University Press, 2002. P. 1–12.
7
García-Lamarca M., Kaika M. «Mortgaged Lives»: The Biopolitics of Debt and Housing Financialisation // Transactions of the Institute of British Geographers. 2016. 41. № 3. Р. 313–327.
8
De Goede M. Virtue, Fortune, and Faith: A Genealogy of Finance. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2005; Ho K. Liquidated: An Ethnography of Wall Street. Durham, NC: Duke University Press, 2009; Lazzarato M. The Making of the Indebted Man: An Essay on the Neoliberal Condition. Cambridge, MA: MIT Press, 2012.
9
См. например, Krippner P. Capitalizing on Crisis: The Political Origins of the Rise of Finance. Cambridge, MA: Harvard University Press, 2011; Lapavitsas C. Profiting Without Producing: How Finance Exploits Us All. London: Verso, 2013; Karwowski E., Stockhammer E. Financialisation in Emerging Economies: A Systematic Overview and Comparison with Anglo-Saxon Economies // Economic and Political Studies. 2017. 5. № 1. Р. 60–86.
10
Pellandini-Simányi L., Hammer F., Vargha Z. The Financialization of Everyday Life or the Domestication of Finance? How Mortgages Engage with Borrowers’ Temporal Horizons, Relationships and Rationality in Hungary // Cultural Studies. 2015. 29. № 5–6. Р. 733–759; Waters H. A. The Financialization of Help: Moneylenders as Economic Translators in the Debt-Based Economy // Central Asian Survey. 2018. 37. № 3. Р. 403–418; Wilkis A. The Moral Power of Money: Morality and Economy in the Life of the Poor. Stanford, CA: Stanford University Press, 2017.
11
Holmes D. R. Economy of Words: Communicative Imperatives in Central Banks. Chicago: University of Chicago Press, 2013; Tsingou E. Club Governance and the Making of Global Financial Rules // Review of International Political Economy. 2015. 22. № 2. Р. 225–256; Zaloom C. Out of the Pits: Traders and Technology from Chicago to London. Chicago: University of Chicago Press, 2006.
12
Lagna A. Derivatives and the Financialisation of the Italian State // New Political Economy. 2016. 21. № 2. Р. 167–186.
13
Kalaitzake M. The Political Power of Finance: The Institute of International Finance in the Greek Debt Crisis // Politics & Society. 2017. 45. № 3. Р. 389–413.
14
Williams B. Debt for Sale: A Social History of the Credit Trap. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2005; Elyachar J. Markets of Dispossession: NGOs, Economic Development, and the State in Cairo. Durham, NC: Duke University Press, 2005. P. 37–65.
15
Kusimba S. «It Is Easy for Women to Ask!»: Gender and Digital Finance in Kenya // Economic Anthropology. 2018. 5. № 2. Р. 247–260; Badue A. F., Ribeiro F. Gendered Redistribution and Family Debt: The Ambiguities of a Cash Transfer Program in Brazil // Economic Anthropology. 2018. 5. № 2. Р. 261–273; Schuster C. Social Collateral: Women and Microfinance in Paraguay’s Smuggling Economy. Oakland: University of California Press, 2015. P. 1–26.
16
Bear L., Ho K., Tsing A., Yanagisako S. Gens: A Feminist Manifesto for the Study of Capitalism // Theorizing the Contemporary, Cultural Anthropology (website). 2015. April 30; Mattioli F. Debt, Financialization, and Politics // A Research Agenda for Economic Anthropology / Ed. by J. Carrier. Cheltenham, UK: Edward Elgar, 2019. Р. 56–73; Konings M. Neoliberalism and the American State // Critical Sociology. 2010. 36. № 5. Р. 741–765; Weiss H. Financialization and Its Discontents: Israelis Negotiating Pensions // American Anthropologist. 2015. 117. № 3. Р. 506–518.
17
Stout N. Petitioning a Giant: Debt, Reciprocity, and Mortgage Modification in the Sacramento Valley // American Ethnologist. 2016. 43. № 1. Р. 158–171.
18
Abrams P. Notes on the Difficulty of Studying the State (1977) // Journal of Historical Sociology. 1988. 1. № 1. Р. 58–89; Mitchell T. The Limits of the State: Beyond Statist Approaches and Their Critics // American Political Science Review. 1991. 85. № 1. Р. 77–96.
19
См. van der Zwan N. Finance and Democracy: A Reappraisal. Paper Presented at the 30th Annual SASE Conference on Global Reordering: Prospects for Equality, Democracy, and Justice, Doshisha University, Kyoto, June 23–25, 2018; или Christophers B. The Limits to Financialization // Dialogues in Human Geography. 2015. 5. № 2. P. 183–200.
20
Lagna A. Derivatives and the Financialisation of the Italian State // New Political Economy. 2016. 21. № 2. Р. 167–186. P. 168.
21
Bear L., Ho K., Tsing A., Yanagisako S. Gens: A Feminist Manifesto for the Study of Capitalism // Theorizing the Contemporary, Cultural Anthropology (website). 2015. April 30. См. также Narotzky S., Besnier N. Crisis, Value, and Hope: Rethinking the Economy: An Introduction to Supplement 9 // Current Anthropology. 2014. 55. Suppl. 9. P. S4–S16.
22
Lagna A. Derivatives and the Financialisation of the Italian State // New Political Economy. 2016. 21. № 2. Р. 167–186. Лагна показывает, что в то время как большинство правительств использует финансовые инструменты, они не делают этого в изоляции от глобальной динамики. Скорее, финансиализация представляет собой пространство, где глобальные повестки (в случае рассматриваемой им Италии – жесткая экономия, навязываемая Европой) могут благоприятствовать появлению внутренних политических лидеров (например, новой коалиции левоцентристских и неолиберальных реформаторов) и разрушать прежние сети власти (например, традиционных владельцев бизнеса, привыкших к процветанию за счет расходов, подпитываемых государственным долгом) из-за ограничения или расширения потока ликвидности и кредита.
23
Mintz S. Sweetness and Power: The Place of Sugar in Modern History. London: Penguin Books, 1985; Ortiz F. Cuban Counterpoint: Tobacco and Sugar. Durham, NC: Duke University Press, 1995; Coronil F. The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela. Chicago: University of Chicago Press, 1997.
24
Narotzky S. Rethinking the Concept of Labour // Journal of the Royal Anthropological Institute. 2018. 24. Suppl. 1. P. 32. Есть достоинства в исследовании перспективы определенных сообществ, когда либо изучается социальность элит (см. Miyazaki H. Arbitraging Japan. Berkeley: University of California Press, 2013; Zaloom C. Out of the Pits: Traders and Technology from Chicago to London. Chicago: University of Chicago Press, 2006), либо рассматривается моральность практик, связанных с долгом, в маргинализованных сообществах (Herzfeld M. Evicted from Eternity: The Restructuring of Modern Rome. Chicago: University of Chicago Press, 2009). Предлагаемый же мной здесь подход принимает идею о том, что финансы определяют пространство отношений, за методологическую подсказку сфокусироваться на противоречиях и взаимосвязях в отношении финансов не внутри, а между сообществами людей.
25
Чтобы получить ясную картину того, как узкий круг лиц, действующих в различных финансовых сферах, может формировать определенные глобальные политические условия, см.: Souleles D. Songs of Profit, Songs of Loss: Private Equity, Wealth, and Inequality. Lincoln: University of Nebraska Press, 2019; Ortiz H. A Political Anthropology of Finance: Profits, States and Cultures in Cross-Border Investment in Shanghai // HAU: Journal of Ethnographic Theory. 2017. 7. № 3. Р. 325–345; Björklund Larsen L. A Fair Share of Tax: A Fiscal Anthropology of Contemporary Sweden. London: Palgrave Macmillan, 2018; Holmes D. R. Economy of Words: Communicative Imperatives in Central Banks. Chicago: University of Chicago Press, 2013.