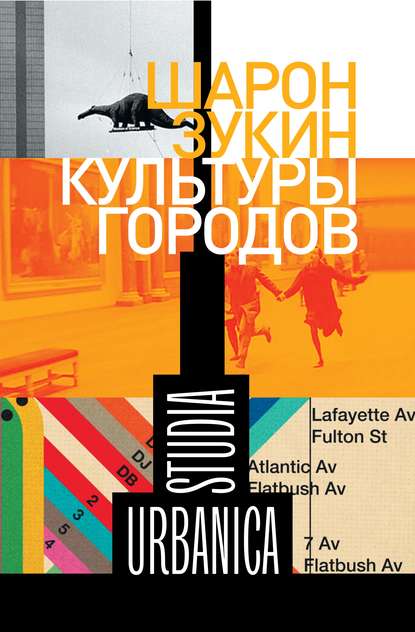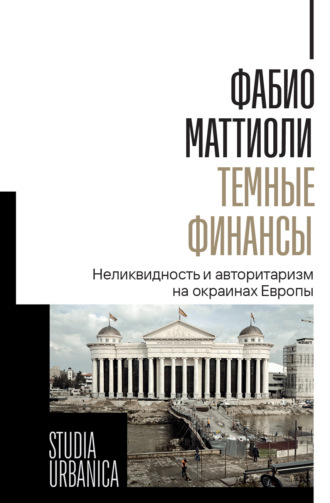
Полная версия
Темные финансы. Неликвидность и авторитаризм на окраинах Европы

Фабио Маттиоли
Темные финансы. Неликвидность и авторитаризм на окраинах Европы
Fabio Mattioli
Dark Finance: Illiquidity and Authoritarianism at the Margins of Europe
© 2020 by The Board of Trustees of the Leland Stanford Jr. University. All rights reserved. This translation is published by arrangement with Stanford University Press, www.sup.org
© А. Белоусова, перевод с английского, 2025
© Д. Черногаев, дизайн обложки, 2025
© ООО «Новое литературное обозрение», 2025
* * *Предисловие редактора
Предисловие научного редактора перевода – не слишком устоявшийся формат. Это не рецензия – ее (наверное) должны делать авторитетные специалисты в области, первые читатели и критики. Рецензия – это первый шаг в рецепции текста в ту или иную интеллектуальную среду. Рецензент при таком взгляде если не нулевой пациент определенной идеи, то по крайней мере ее переносчик. Предисловие – это не краткое содержание: обычно сам автор раскрывает во введении или первых главах текста свой замысел или его структуру. В советском книгоиздании нередко самим книгам предшествовал большой комментарий главного редактора, редактора серии или научного переводчика. Основной сюжет таких предисловий – показать, как стоит читать и понимать публикуемый текст, объяснить, как он встраивается в картину доктрины идеологии. Но был и другой формат, который давал широкий исторический и отчасти антропологический контекст, например тамильского стихосложения в серии «Библиотека всемирной литературы». Существует и тяжелый, строго научный формат предисловий – как в четырехтомной серии «Хозяйства и общества» Вебера. Этот формат описывает проблемы и сложности, с которым сталкивался научный редактор скорее серии, чем книги, дает интерпретации текстов и отдельных глав. Это работа для интеллектуальной верхушки академической и издательской среды. Есть еще версия, когда предисловие – это попытка переосмысления: например, более чем 50-страничное предисловие О. Хархордина к «Нового времени не было» 2006 года. Есть редкий, но красивый формат «предисловие-как-дополнительный-текст» самого автора. Так, в качестве предисловия к «Обществу спектакля» от АСТ используется предисловие к четвертому итальянскому изданию 1979 года. Кажущееся на первый взгляд откровенно архивным и неуместным предисловие оказывается способом упаковать два текста в один, когда основной раскрывается через реакцию автора на рецепцию текста в исторических событиях. А читатель оказывается наблюдателем третьего или четвертого порядка. Кроме того, бывают и переводы без предисловий, но причины их существования для меня являются загадкой.
Теперь, когда проявлены основные виды предисловий, скажу, что это предисловие не является ничем из перечисленного. Свою задачу я вижу не как калибровку того, как стоит понимать историю финансиализации одновременно далекой и похожей Македонии[1]. Я хочу лишь показать контекст и расположить тезисы, от которых можно начать разговор/спор. Я предлагаю читателю не место у костра с обсуждением, а розжиг – кусок сухой бересты или газеты. А задача этого предисловия о предисловиях – правильно позиционировать дальнейшие слова о книге и о ее (возможной) роли.
Чтение предисловия и участие в разговоре является личным делом каждого. Если вы точно знаете, зачем вам эта книга, или, наоборот, хотите читать ее просто как зарисовки из жизни Македонии 10-летней давности, мое предисловие не сможет быть вам полезным. Но если у вас, как и у меня, есть интерес к антропологической работе, к попыткам увидеть за историей Македонии закономерности, я постараюсь вам помочь.
Фабио Маттиоли – социальный антрополог, преподаватель в Школе социальных и политических наук Мельбурнского университета и научный сотрудник в Центре искусственного интеллекта и цифровой этики. Бакалаврская степень получена в Университете Флоренции, магистерская – в престижной французской Высшей школе социальных наук (EHESS), а PhD – в Городском университете Нью-Йорка (City University of New York). Иными словами, Маттиоли – если не образец, то пример сильного международного исследователя, укорененного не в местной, а в глобальной академии. Среди интересующих его областей – постсоциализм, антропология финансов и экономическая антропология, социальные исследования Восточной Европы, городская антропология. Согласно сайту Мельбурнского университета, в последние годы исследовательские проекты сместились в сторону новых технологий: теперь проекты связаны с инновациями в цифровой экономике, антропологический взгляд на сосуществование и интеграцию ИИ и человека и сопроизводство фейковых новостей людьми и алгоритмами социальных сетей. Это позволяет предположить, что Маттиоли в начале 2020-х, при переходе от PhD-исследователя к полноправному академическому сотруднику, сменил фокус интереса от регионализированного и более теоретического (финансы) к более практическим и более хайповым направлениям. Его последние статьи – о том, насколько приемлемой потребители из Австралии и Мексики считают работу с использованием новых технологий, в том числе связанных с искусственным интеллектом, при производстве вина, от дронов до «электронного носа» для анализа состава вина, или как основатели стартапов, участвующих в государственном акселераторе, выстраивают или создают свою легитимность. Не настолько интригующе, но более респектабельно, чем темные финансы, поглощающие Македонию.
Сама книга «Темные финансы», насколько удалось понять, является переработанной для широкой публики диссертацией. В 2021 году книга получила почетное упоминание Американской антропологической ассоциации, а в 2023 году – награду Общества экономической антропологии (SEA). И уже на этом моменте я хотел бы акцентировать внимание на судьбе книги. Будучи не антропологом, но представителем близкой научной сферы, я не могу вспомнить за последние годы широкой публикации, обсуждения и награждения несколькими ассоциациями какой-либо кандидатской диссертации. Или хотя бы публикации диссертации, пусть и не по антропологии, но по близким дисциплинам – психологии, социологии, социальной философии. Наверное, такие примеры можно найти, но мой тезис заключается в том, что на русском языке публикации такого формата выходят исключительно редко. Книги исследователей небезызвестного фонда можно было бы назвать исключением, если бы исследования глубинки и околокриминальной занятости были бы интересны сравнительно широкому кругу читателей за пределами победителей и будущих победителей конкурсов фонда. Поэтому сформулирую так: в России пока не сформирована практика и публикации, и чтения (и письма) диссертаций для широкой публики, нет разных голосов, говорящих разное и о разном. И этот недостаток отечественного издательского дела позволяет подсветить два преимущества книги: она простая, и она не претендует на единственно верное описание своего объекта.
Эта книга действительно очень проста: вы можете предложить ее практически любому взрослому человеку, и он ее поймет, сможет сформулировать, что изучал и что хочет донести до нас Фабио Маттиоли. В ней есть несколько действительно сложных, академичных и насыщенных страниц, но практически все они находятся во введении и касаются концептуализации исследовательской части. Мы постарались сделать их более прозрачными, хотя задача таких предложений и абзацев – быть строгими и четкими, нежели интуитивно понятными. За исключением этих страниц остальная книга состоит из трех жанров – общего описания общественных событий в Македонии; этнографического описания конкретных случаев, наблюдений, разговоров; рассуждений, встраивающих описания в ряды и объяснительные цепочки.
Вторая сильная сторона книги: она не претендует на единственное верное описание Македонии, строительного сектора, мужественности или постсоветских практик взаимозачета. Работы отечественных антропологов часто ультимативно рассказывают об артефактах советского быта, системе власти в малых городах или рыболовстве эвенков так, как будто это жесткие вещи мира, не терпящие другой интерпретации. Я могу предположить, что причина этого в скрытой или очень простой концептуализации феноменов. Силы концептуализации хватает, чтобы указать на феномен, но не показать его краски, его контекст и хинтерланд. Проблема с таким подходом в том, что он безальтернативен, он не позволяет обсуждать, если ты не согласен или видел другое. Можно лишь дополнять уже сказанное вариациями на тему. Но есть и другой подход: когда то, о чем в книге написано, и то, о чем книга рассказывает, – это разные вещи. Как Латур, описывая сложности процедур в бюрократическо-юридическом феномене Госсовета, рассказывает нам не про конкретный феномен парадоксального бюрократического института, а предлагает способ объяснения и описания мира на примере необычного, и потому выпуклого, феномена Госсовета. То же самое делает и Маттиоли: для него Македония лишь удачный пример того, как работают финансы, того, как происходит превращение и замещение всего финансами и финансовой логикой. Македония для него (по крайней мере, в этой книге) – пример периферии Европы, куда обновление и заемный международный капитал добрались в последнюю очередь. В одном из интервью он указывает, что его выводы о Македонии релевантны и для таких стран, как Турция, Венгрия или Индия, а судя по количеству ссылок на исследователей России – и для России. Но важно, что через Македонию здесь говорится о другом.
К моему большому разочарованию, здесь говорится не про города, архитектуру, строительство или дома. Она даже не про финансы и экспансию финансового сектора. Эта книга не ограничивается обличительными зарисовками про жизнь в постсоветской автократии, как интерпретировал книгу портал The Review of Democracy, – тут достается и коррумпированным чиновникам от Европарламента, и пожилым югославским разведчикам, и итальянским «предпринимателям». Македония и ее строительный сектор предстают контекстом, в котором происходит действие. Описываемое действие – парадоксальная финансиализация периферии Европы в момент экономического кризиса. Но все это вместе должно рассказывать нам о связности мира, о том, как выстраиваются отношения между центром и периферией, какую динамику они задают в самовосприятии и идентичностях жителей периферии Европы. О том, как пугающая автора политическая система оказывается не более чем гипсовым львом на фасаде реплики античного здания. О том, что политика – это не столько про выборы, сколько про международные займы, рынок труда, отношения на рабочем месте и возможность разделить обед с коллегами.
Заинтересовавший Маттиоли сюжет – план «Скопье–2014». В 2010 году, когда большая часть мира только начала приходить в себя от кризиса 2008 года, правительство небольшой и небогатой Македонии внезапно объявляет о старте масштабного и дорогого плана городской реконструкции столицы. Абсурдность ситуации вызывает вопрос: как это возможно? Почему и за счет чего бедная Македония в момент, когда весь мир еще не перезапустил стройку после пузыря 2008 года, запускает процесс если не джентрификации, то городского обновления? Откуда на это должны появиться деньги у инвесторов, строителей и покупателей? Приблизительно с такими вопросами была начата работа, которая продолжилась полевым исследованием в 2013–2014 годах, а еще 7 лет спустя была признана как рассказ о впечатляющем исследовании. Для ответа на этот вопрос необходимо пройти по улицам бунтующего города, понять роль Македонии в экономике Югославии, разобраться в особенностях европейских программ экономического развития и увидеть способы, которыми прорабы на стройке пытаются водить за нос инспекции. Такие сюжеты составляют художественную, этнографическую и риторическую части исследования.
На мой взгляд, замечания о сальных шутках пожилого албанского инвестора-мутилы или зарисовка о самогоноварении у отставных силовиков не добавляют рациональности аргументации, но делают книгу ярче. И тут вскрывается ключевая проблема книги – она не очень убедительна. Может быть, дело в том, что у нас разные дисциплинарные представления об убедительности, или это во мне токсично говорит опыт постсоветского человека «и не такое видали», но аргументация Маттиоли не убеждает меня. Можно предположить, что это результат сокращений и специфичной «подготовки книги для широкой публики». В том, как женщины-менеджеры заботятся о своих мужчинах-рабочих, как они вынуждены скромно и подчеркнуто по-деловому одеваться, я могу попытаться разглядеть многие феномены, но не увидеть поступь финансиализации от центра к периферии Европы. За дурными и похабными шуточками рабочих, сидящих без работы и оплаты на стройке, навряд ли стоит «авторитарный режим Груевского». Такую манеру общения наблюдатель обнаружит во множестве «трудовых коллективов» определенного типа: с временной занятостью, мужским разновозрастным составом с разной квалификацией, но сходным жизненным опытом. То же самое он увидит и на стройке в Аргентине, Канаде или Индии. А вот в других условиях – на нефтяных или газовых вахтах (где состав рабочих групп меняется реже), на совершенно неквалифицированных сезонных работах (как у сборщиков хмеля Оруэлла), в рейсах на рыболовных траулерах – и отношения внутри группы, и тип разговоров будут немного другими. И, к сожалению, это не только зарисовки, дополнения к основному аргументу. В таких сюжетах Маттиоли показывает нам, из чего составлена повседневная жизнь Македонии и власть финансиализации.
Такие риторические приемы, нагнетание, как в сериале 80-х «Спрут», заставляют ожидать развязки, что через все эти практики проявится настоящая Македония, настоящие македонцы, югославы и албанцы без влияния зловещего режима и всепроникающей финансиализации. Но в книге мы видим лишь отдельные практики разной степени порочности, коррумпированности, прозрачности и связности. Проникает ли власть режима во «все поры македонского общества»? У меня нет уверенности в этом. Вызвана ли перестройка македонского общества и особенности его политической жизни режима внешними силами? Отчасти да и отчасти нет. Можно согласиться с ключевым тезисом, что экспансия финансов на окраину Европы изменила, переформатировала и использовала идентичности местных жителей, опиралась на их надежды на процветание. Но была ли она орудием подчинения? Наверное, это слишком сильное, слишком политизированное, слишком яркое утверждение для такого рода работы.
Еще одно уязвимое место книги как академического издания – нехватка саморефлексии. Во введении есть пара абзацев, которые можно посчитать за попытку описать позицию автора, того, откуда ведется повествование, но они коротки и имеют формальный характер. В ситуации, когда существенная часть исследований является легендами для создания информационных поводов и информкомпаний, исследование на любую острую тему сложно не заподозрить в ангажированности. Описания такого рода не формальность, отвечающая требованиям этических комитетов, это предохранитель читателя от манипуляций. Мы можем быть хоть как-то уверены в точности наблюдений и честности суждений, только если знаем, что является их предпосылками, – то есть понимаем позицию автора. Позиция и суждения должны быть одного рода, быть просто связанными. Иначе, как нередко бывает в отечественных исследованиях, попадающих в СМИ, за высказываниями и выводами нетрудно разглядеть даже не уши, а цвет кожи кошелька заказчика работ. Но такой раздел, к сожалению, не является обязательным, хотя украсил бы практически любую работу по обществоведческим дисциплинам.
Обобщая, скажу, что эту книгу стоит читать. Читать в первую очередь как отпечаток работы другого мыслительного коллектива. Как документ, в котором можно обнаружить отношение «западной академии» к полевой работе, рефлексии исследователя, способу письма и аргументации, отношение к разным странам. И фигура автора тут также будет иметь значение. Эту книгу стоит читать как пример книг, формата которых у нас нет, но который тоже имеет свою ценность. Эту книгу можно рекомендовать почитать людям, просто интересующимся разным: постсоветской историей, Балканами, Македонией или финансами. И пусть не со всеми интерпретациями жизни на периферии от (теперь уже) австралийского антрополога можно согласиться, у книги множество других достоинств. В данном случае важно, как она сделана и о чем она рассказывает.
Благодарности
Книги, и в особенности по этнографии, не являются индивидуальными достижениями, несмотря на авторство, указанное на обложке. Эта книга была бы невозможна, если бы не помощь сотрудников Construx и других македонских компаний, которые приняли меня, несмотря на мои минимальные знания македонского языка и мою полную бесполезность для их работы. Для меня было честью облачиться в синюю спецодежду компании и разделить, пусть и со стороны, некоторые из трудностей ее работников.
Я в большом интеллектуальном долгу перед многими людьми. Кэтрин Вердери, Майкл Блим, Сета Лоу, Джефф Масковски, Дэвид Харви, Джули Скурски, Эмили Чаннел-Джастис, Дэвид Боренштейн, Наоми Адив, Джей Блэр, Юрай Анзулович, Андреина Торрес, Сайгун Гекариксель, Салим Карлитекин, Росио Хиль и другие способствовали созданию книги в годы моей учебы в Аспирантском центре Городского университета Нью-Йорка. Эмили Гребл, Сьюзан Вудворд, Мадиган Фихтер и члены Нью-Йоркского кружка (NYC Kruzhok) были потрясающими товарищами по дискуссии, с которыми я сформулировал многие из своих начальных идей. В Центре европейских и средиземноморских исследований Нью-Йоркского университета книга вызрела и приняла свою теперешнюю форму благодаря поддержке Ларри Вольфа, Розарио Форленца, Кристиана Мартина, Эрики Роблес-Андерсон, Лилли Чамли, Софи Гоник, Рикардо Кардосо и Лилианы Хиль. Но именно в Мельбурнском университете проект увидел свет благодаря активному участию Джона Кокса, Дебры Макдугал, Гарриетты Ричардс, Макса Холлерана, Мишель Кармоди, Карлы Уилсон, Кари Долгрен, Синтии Сир, Тэмми Кон, Камео Далли, Моники Миннегал, Фионы Хейнс, Энди Доусона, Майкла Херцфельда, Аманды Гилбертсон, Калиссы Алексеефф, Эрин Фитц-Генри и многих других коллег из Школы социальных и политических наук.
Некоторые из ключевых идей этой книги были сформулированы в ходе мимолетных бесед с коллегами, с которыми меня сводили профессиональные перемещения, таких как Элизабет Данн, Лариса Куртович, Джессика Гринбергер, Сара Мьюир, Неринга Клумбите, Эндрю Гилберт, Матильда Кордоба-Азкарате, Клаудио Сопранцетти, Марек Микуш, Дана Джонсон и Алан Смарт. Аарон З. Питлак, Дэниел Сулелес, Пол Лэнгли, Ана-Флавия Бадуэ и другие участники конференции Общества экономической антропологии 2017 года помогли мне развить мои представления о финансиализации. Большое спасибо Деборе Джеймс, Ивану Райковичу, Сохини Кар, Дзаире Тициане Лофранко, Антонио Пускеду и Рамоне Стаут, которые помогли улучшить несколько ранних черновиков.
Мне особенно повезло, что в моей работе принимали участие такие ученые из Македонии, как Горан Янев, Энди Граан, Кит Браун, Розита Димова, Дэйв Уилсон, Василики Неофотистос, Люпко Ристевски и другие коллеги из Института этнологии и антропологии Скопье, которые давали советы, приводили примеры и поддерживали контакты на протяжении десяти лет работы в этой стране. Тияна Радеска, Петар Тодоров, Гани Рамадани и Бранимир Йованович оказали мне огромную помощь в получении доступа к различным материалам, любезно делились ими за ужином и выпивкой.
Эта книга не состоялась бы без полного энтузиазма руководства Мишеля Липински и заботы всей редакционной команды Издательства Стэнфордского университета. В нынешний период нестабильности в издательском мире их приверженность интеллектуальным обменам и поддержка начинающих ученых были просто образцовыми. Несколько других институций оказали проекту финансовую и логистическую поддержку. Большое спасибо Совету по европейским исследованиям Колумбийского университета, Фонду Веннера-Грена, Аспирантскому центру Городского университета Нью-Йорка, Центру европейских и средиземноморских исследований, Институту Ремарка при Нью-Йоркском университете и Школе социальных и политических наук Мельбурнского университета.
Однако в наибольшем долгу эта книга перед теми наставниками, друзьями и товарищами, которые помогли мне найти путь в бурном море интеллектуальной, экономической и экзистенциальной неопределенности. Моя мать Кристина, мой отец Лучано и мой брат Федерико поддерживали меня своей непоколебимой верой. Пример моих бабушек и дедушек – Энрико, Норфы, Беппе и Марисы – и Маэстро Фаччини научил меня ценности, достоинству и поэтике тяжелого труда. Бела, моя спутница, крепко держала штурвал, пока мы пересекали три континента, приводя меня в неожиданные места, где мои мысли могли свободно блуждать, обретая полноту в гармонии с ее красотой.
Введение
История создания неликвидности в Македонии
Зима 2017 года. Туман опускается на Скопье как смертоносная, но милосердная пелена. Призрачное свечение озаряет улицы для нескольких офисных работников, быстро идущих между зданиями вдоль главных городских артерий. Поверх черных масок-респираторов периодически выглядывают голубые, карие и зеленые глаза. Кафе открыты, но пусты, напоминая глубокие вздохи в равномерном дыхании. Здания медленно возникают и исчезают в смоге, их силуэты смешиваются в тысячу химерных форм.
Когда Скопье оживает, это не приносит облегчения. Необарочные фасады расползаются, как пластиковые паразиты, по скелетам зданий социалистических времен. Бронзовые памятники национальным героям отражают звук шагов, распространяя эхо пустых обещаний великого будущего, разоблаченных хрупкими формами ветхих школ и больниц. В проеме небольшой триумфальной арки виднеются кучкующиеся новостройки, которые выросли как грибы после дождя на восточных окраинах – олигархи и правительство, которое спонсировало македонскую городскую экспансию, вероятно, считают их победой. Для жителей, подрядчиков и горожан они – тревожное свидетельство быстрорастущих долгов.
Израненный, измотанный, недоверчивый – современный Скопье восстанавливается после похмелья от строительного запоя, затянувшегося на десять лет. Предполагалось, что волна городского обновления, анонсированного в 2010 году и известного как «Скопье-2014», удержит на плаву экономику Македонии во время международной рецессии, последовавшей за ипотечным кризисом в США 2007 года – экономическим потрясением, которое на последующее десятилетие заморозило международные кредитные рынки и повлекло за собой несколько кризисов ипотечного и государственного долга в Европе. В теории государственные кредиты, субсидировавшие план «Скопье-2014», представляли собой инвестицию, которая должна была предотвратить распространение финансовой нестабильности на Македонию, сделать страну узнаваемой и привлечь глобальный капитал. На практике средства доходили лишь до немногих компаний. Деньги словно испарялись, не успев добраться до местного бизнеса. Неоплаченные счета же, напротив, никуда не девались.
Как во многих других мировых столицах, спираль кредитования, сделавшая «Скопье-2014» возможным, возникла из пула ликвидных инвестиций, поддерживающих финансовую архитектуру современного капитализма. Необычным было разве что время ее появления. Глобальные кредиторы заинтересовались Македонией именно в тот момент, когда инвестиции в строительство по всей Европе считались безрассудством. Что еще важнее, их кредиты, казалось, предназначались для государственных структур, а не повторяли того неразборчивого поведения, что наблюдалось до глобального финансового кризиса. Правительство Македонии набрало долгов и – теоретически – наличности, которую можно было тратить, но удивительным образом македонский бизнес и граждане едва могли получить кредиты от частных банков или даже выплаты от госорганов. Для них Македония не была страной, купающейся в деньгах. Наоборот, казалось, что страна бедствует от нехватки ликвидности и несправедливых условий труда.
Для тех же, кто придумал необарочные фасады «Скопье-2014», рост строительного и финансового секторов Македонии был чрезвычайно прибыльным. Между 2006 и 2016 годами премьер-министр Македонии Никола Груевский, его двоюродный брат и руководитель службы безопасности страны Сашо Миялков вместе с узким кругом политиков и олигархов использовал ресурсы, предоставленные международными финансовыми организациями, чтобы завладеть активами и упрочить свой контроль над государством и обществом. Под звук ударов кувалд скрытно работали сети вымогательств, насильственных приобретений, политического насилия, арестов, неизбирательной прослушки и запугивания. С каждым евро, шедшим на обустройство городских пространств Скопье, режим Груевского становился физически ощутимым, производя впечатление сильного, реального и неизбежного.

Илл. 1. Статуя Александра Великого появляется из зимнего тумана в Скопье (В русской традиции Александр Великий традиционно называется Македонским, в переводе сохранена версия оригинала)