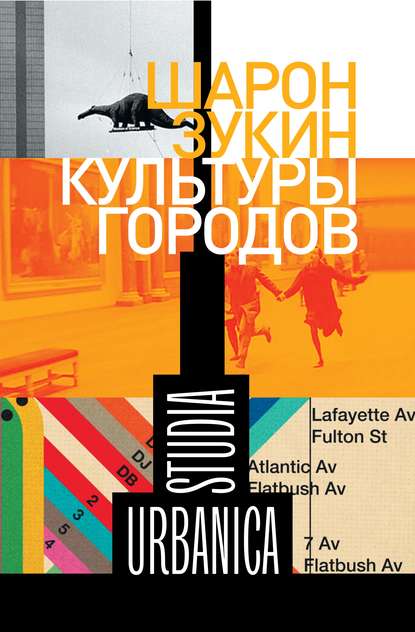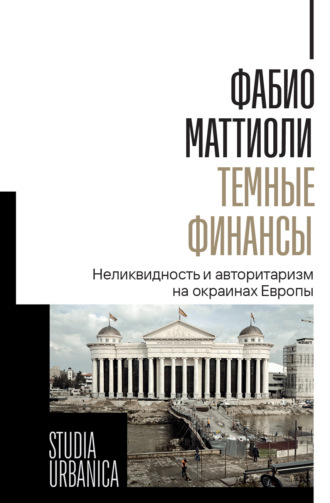
Полная версия
Темные финансы. Неликвидность и авторитаризм на окраинах Европы
Находясь в тисках безденежья и деспотичного режима, большинство македонцев чувствовали себя бессильными. Груевский, напротив, казался неприкосновенным, способным контролировать экономику страны и ответить на любые протесты или скандалы. Даже когда в 2015 году оппозиция опубликовала аудиозаписи, которые вскрывали преступления режима, Груевский и его партия «Внутренняя македонская революционная организация – Демократическая партия за македонское национальное единство» (ВМРО-ДПМНЕ) выстояли, оказавшись сильнейшей партией на выборах 2016 года и недосчитавшись всего нескольких мест до нового большинства.
И все же, когда режим, казалось, был готов пережить очередной кризис, он вдруг рассыпался. Вознамерившись помешать (хрупкой) коалиции создать новое правительство, ВМРО-ДПМНЕ попыталась затормозить, бойкотировать и в конечном итоге физически оккупировать македонский парламент, организовав озлобленную толпу бандитов и ярых националистов. В минуты наступившего хаоса и насилия слухи о перевороте распространялись со скоростью лесного пожара. Охваченные паникой, мои друзья и собеседники звонили мне в Нью-Йорк. Они опасались, что армия поддержит режим, и ожидали, что президент Македонии Горге Иванов, ближайший соратник Груевского, объявит военное положение. После нескольких часов хаоса, однако, ничего не произошло. В своей речи Иванов призвал всех сохранять спокойствие. Находившийся в Вене Груевский последовал его примеру. Наконец, вмешалась полиция, удалив поддерживающих ВМРО-ДПМНЕ протестующих, – так аура неуязвимости, окружавшая режим, испарилась.
Как вышло, что режим Груевского, подчинивший себе сердца и умы македонцев, пал так стремительно? И если режим был таким могущественным, почему он оказался неспособным пойти на открытое, крупномасштабное политическое насилие, когда в этом была острая необходимость? Эта книга утверждает, что устойчивость и хрупкость македонского авторитаризма напрямую связаны с формами финансовой экспансии, переживаемой на периферии Европы. Представленное мной этнографическое исследование македонского строительного сектора свидетельствует о том, что режим Груевского процветал благодаря геополитической ценности, которую такая небольшая, окраинная страна, как Македония, обрела в ходе глобального финансового кризиса. Сумев получить доступ к финансовым ресурсам в период заморозки глобального кредитного рынка, Груевский вплел сложные слои финансовой зависимости в городской ландшафт.
В реконструкции Скопье финансовые схемы навязанного кредитования и иллюзорного богатства переплелись с формальными и сущностными процессами в ядре политический жизни Македонии. Вместо того чтобы быть функцией устройств учета или ликвидного капитала, финансы распространялись через пересечения и противостояния множества акторов. Финансовые потоки следовали за властными играми таких фигур, как Груевский, который смог использовать в своих интересах одновременно и ожидание прибыли глобальных финансовых игроков, и жажду признания, которую выражали македонские граждане. В результате в стране, унаследовавшей черты финансовой периферии, возник особый вид неликвидности, где долговые отношения расширялись, но поток денег оставался централизованным и ограниченным. Неликвидность позволила Македонскому правительству на десятилетие монополизировать денежную массу и вынудить бизнес и частные лица согласиться с авторитарной политикой. Неликвидность, скорее усиливая, чем сглаживая финансовую эксплуатацию, ощутимую в Македонии, маскировала структурные зависимости режима – до тех пор, пока режима не стало.
Эта книга рассказывает истории предпринимателей-неудачников, рабочих, увязших в долгах, и честолюбивых бюрократов – и показывает, что экспансия финансов на окраинах Европы превратила идентичности, ценности и надежды на экономическое благополучие в орудия подчинения. Каждая глава предлагает исследование нового места, где столкнулись и переплелись друг с другом финансы и политика. В этой хронике событий авторитарный режим Македонии, оседлав волну финансовой экспансии, сначала проникает во все поры македонского общества и усиливает свое влияние, но в конце концов понимает, что, как и все спекулятивные пузыри, его власть всегда была на грани краха.
Финансиализация и политика
Большинство аспектов современной жизни – от продовольственного производства до образования, от ежедневных покупок до контроля за распространением заболеваний и предотвращения катастроф – становятся возможны благодаря долговому финансированию и связаны с ростом или сжатием финансовых рынков. Социологи называют это нарастающее влияние финансовых акторов, рынков и способов мышления финансиализацией – это глобальный процесс, который все больше понимается как социальное, а не экономическое явление[2].
Тогда как ранние исследования экспансии финансов сосредоточивались на ее техническом и функциональном аспектах, благодаря мировому финансовому кризису стало вполне очевидно, что финансиализация пересекается с официальной (а также повседневной) политикой[3].
Уже в 1920-х годах мыслители-марксисты представляли расширение влияния финансов как классовый проект, в котором правящие классы использовали государственные структуры для расширения своего господства. По мнению Гильфердинга, финансовая экспансия была вызвана возникновением крупных монополий, в которых происходило сближение интересов богатейших слоев буржуазии и государственных бюрократов[4]. Столкнувшись с характерными кризисами сверхнакопления, финансовые элиты используют политическое влияние, законодательство и военную силу для открытия новых рынков и трансформации своего производственного капитала в финансовую прибыль. Как следствие, финансиализация привела к драматичным политическим событиям – от войн до смен режимов и (более или менее скрытых) форм колониализма[5].
Экспансия и повышение ликвидности финансового капитала при этом также взаимосвязаны с более тонкими политическими процессами. Социологи под влиянием представлений Фуко о надзоре и дисциплине показали, что финансы воздействуют на коллективную и частную жизнь, переводя противоречивый социальный опыт в ясно считываемые формы. Эта новая идеологическая основа помогает представлять и лучше понимать социальные взаимоотношения[6]. Через дискурсивные и перформативные практики ипотека, кредитные карты и алгоритмы переплавляют «общественные и семейные отношения в шестеренки глобальных спекулятивных финансовых стратегий»[7]. Эти новые технологии распознавания пересматривают понятие «ценности», перестраивая не только стандарты оценки, но даже и субъективные процессы, с помощью которых граждане осмысляют самих себя и, в конечном счете, свои коллективные устремления[8].
Чем более значимой составляющей общественной жизни становятся финансы, тем в большей мере их источники, траектории и воздействие формируются специфическими историческим, социальным и экономическим контекстом[9]. В этом контекстуальном подходе определяющим для финансиализации и ее политического значения является то, как ее присваивают, применяют и встраивают в мораль отдельные сообщества акторов[10]. Это, конечно, легко заметить в среде профессиональных финансистов, неуловимых глав центральных банков и менеджеров хедж-фондов[11], формирующих ее инфраструктуру в соответствии со своим мировоззрением. Но есть и многие другие, чьи действия имеют критическое значение для существования финансов: политические лидеры, приглашающие или заманивающие глобальных инвесторов[12]; менеджеры и бюрократы, которые стремятся заполучить контракты с кредитным финансированием, исполняют их или жонглируют ими[13]; рабочие, рассчитывающие подзаработать на финансовых сделках или вынужденные брать разорительные микрокредиты, чтобы избежать финансового банкротства[14]; и матери и жены, на которых возложена обязанность вносить свой вклад и защищать финансовую стабильность их семей[15]. Эти акторы встречаются с финансами, манипулируют ими и формируют их в разнообразных контекстах, изобилующих моральными дилеммами и противоречиями, находящимися под влиянием индивидуального опыта или стремлений в той же мере, в какой они ограничены, или обусловлены, трендами, которые задаются глобальными финансовыми игроками. Именно эти неравные встречи с открытым исходом делают финансиализацию реальной[16].
Это соображение приводит к концептуальной дилемме: если финансовая экспансия осуществляется множеством акторов, формируется множеством отношений и приводит ко множеству политических последствий, имеет ли все еще смысл говорить о финансиализации как о реальном, отдельном, целостном процессе? В конце концов, большинство сценариев, характерных для финансиализации (то есть получение кредитов, заключение долгового договора, покупка или продажа акций), не подразумевают прямого взаимодействия индивидов с реальными денежными потоками. На практике встречи с финансами предусматривают взаимодействие с чиновниками, долговыми коллекторами, бизнес-партнерами, кредитными скоринговыми системами, банковскими служащими и даже иногда программным обеспечением[17].
Должны ли мы ответить на этот непростой вопрос, отказавшись от представления о финансиализации как действительно существующем процессе в пользу «эффектов финансиализации», так же как в 1970-е годы ученые поставили под вопрос существование государства как предмета исследования?[18] Или нам следует преодолеть неопределенную природу понятия, уточнив его границы, и использовать финансиализацию только чтобы обозначать внедрение специфических режимов калькуляции, которые подчиняют финансовые процессы неолиберальным рынкам, что некоторые начали называть финансиализацией финансов?[19]
Ни одна из этих трактовок не будет продуктивной для таких мест, как Македония. Отказ от концепции финансиализации, отрицание какой-либо целостности ее существования или ограничение этого явления техническими аспектами затруднили бы понимание финансовой экспансии в периферийном контексте, где финансы предстают в особенно противоречивых формах по сравнению с теми, что наблюдаются в торговых залах Лондонской и Чикагской биржи. На этой мировой окраине финансовая экспансия может действовать через различные средства обмена и быть напрямую связана с действиями небольшой клики местных политических лидеров, которые «управляют государственными делами, задействуя методы и инструменты финансовых инноваций»[20]. Эти специфические формы политики, вовсе не являющиеся аномальными, разыгрываются в шизофренической симфонии глобального кредитования и, по сути, приоткрывают завесу над политическими процессами, которые делают возможными некоторые из наиболее абстрактных финансовых инноваций, регулирующих жизнь в ядре глобальной экономической системы.
Виды финансов, наблюдающиеся на мировых перифериях, предлагают третий вариант аналитического подхода к финансиализации: уйти от изучения технических аспектов финансов или сетей их главных операторов и вместо этого обратиться к политическому и экономическому ландшафтам, в которых разворачивается финансовая экспансия. Если финансиализация «порождается гетерогенностью и различиями, а также разнообразными стратегиями бытия и становления особенными типами людей, семьей или сообществ»[21], то тогда технические, социальные и культурные процессы, характерные для финансовых элит, представляют собой лишь один из многих компонентов, образующих финансиализацию. В этой перспективе социоэкономический процесс финансиализации не является ни социальным актором, ни чертой специфической социальной группы, ни серией мимолетных эффектов. Финансиализация, скорее, аналитически определяет политическую и экономическую конъюнктуру, которая дает форму, определяет, поддерживает или структурирует финансовую экспансию – результат более или менее устойчивых взаимодействий, отношений и борьбы, – опосредованную историческим и материальным процессами, которые пересекаются с усилиями государства и отражают опыт общества в глобальной экономической системе[22].
Органическая политэкономия
Понимание финансиализации как политической и экономической конъюнктуры представляет собой одновременно и теоретическую, и методологическую задачу. Это значит найти этнографические и аналитические пространства, адекватные для исследования того, как глобальные события, подобные мировому финансовому кризису, взаимодействуют с политическим контекстом общества на периферии, такого как македонское. Это также означает дать голос этнографическим свидетельствам, показывающим, что финансиализация – это не однонаправленный процесс, зарождающийся в Нью-Йорке, Лондоне, Шанхае или Франкфурте и (не)равномерно движущийся в сторону периферии. Как и формы колониального капитализма, описанные Минцем, Ортисом и Коронилом, этот подход к финансиализации представляет собой динамику взаимодействий[23] – ряд неравных отношений, конфликтов и противоречий между центром и периферией, между либеральными лидерами и потенциальными диктаторами, а также глобальными финансовыми институциями и местными рабочими.
Чтобы проанализировать и реконструировать эту интерактивную динамику, я разложил процесс финансовой экспансии в Македонии на пять аналитических компонентов, которые описывают ее историческую и географическую траекторию, ее распространение через множественные кредитные логики и ее переплетение с индивидуальными и коллективными идентичностями. Эти пять аналитических пространств не только дают различные этнографические перспективы, но также выявляют различные виды переплетений – разнообразные отношения, которые вплетают формы финансов в общественную жизнь и порождают неравные, но «значимые связи между людьми»[24].
Выявление отношенческой природы финансиализации требует комплексности – подхода, в котором ожидания прибыли финансистов сопоставлены с опытом других социальных акторов, таких как нуждающиеся рабочие и расчетливые политические лидеры. В македонском контексте это значит понять, почему международные финансовые институты, такие как Deutsche Bank, Citibank и Международный валютный фонд (МВФ), решили инвестировать сотни миллионов евро в Македонию[25] в свете реализуемой Груевским стратегии брендинга и узнаваемости; возросшую способность олигархов рассчитывать на неликвидность, играя на мечтах граждан, которые на десятилетия застряли в нескончаемых циклах экономической стагнации; и плавную интеграцию вредных финансовых схем в план благотворного социалистического неформального кредитования. Без этих частей истории будет невозможно понять, почему финансовая экспансия резко ускорилась во время финансового кризиса, породив призрачные финансовые богатства и хрупкий, но всепроникающий авторитарный режим.
Несмотря на аналитическую ясность этого подхода, сбор данных, необходимых для выявления и исследования этих пяти пространств переплетений, был особенно затруднен постепенным расширением авторитарной политики в Македонии. В 2013–2014 годах, когда я проводил 12-месячное этнографическое исследование строительного сектора Скопье, политические контуры правления Груевского были очень расплывчаты. Собеседники шепотом рассказывали о политически мотивированных нападениях, о мухлеже правительства с госконтрактами, о том, что за бизнесменами и иностранцами, вероятно, активно следят агенты спецслужб, и о гомофобных нападениях на сообщества лесбиянок, геев, бисексуалов, трансгендерных и квир-людей. Эти слухи создавали всепроникающую атмосферу страха и недоверия. Многие жаловались – ставя «философские» диагнозы политической обстановке, которая ощущалась ими как все более репрессивная, – но неохотно называли имена, суммы, а иногда и конкретные примеры, которые могли бы выдать их собственное участие в незаконных сделках.
Эта подозрительность сделала мою работу в поле чрезвычайно обескураживающим и тревожным опытом. Находился ли я под наблюдением? Были ли участники моего исследования честны со мной в своих свидетельствах? Почему многие упорно использовали вымышленные примеры? Были ли виной тому мои недостатки как этнографа? И только после нескольких визитов, когда публикация аудиозаписей воодушевила критиков и оппозицию, я осознал, что ведение разговоров в абстрактном и общем ключе зачастую было проявлением заботы, попыткой моих собеседников защитить нас обоих от раскрытия опасных деталей. Что еще важнее, призрачный ландшафт, который они порождали, стал критически важным аналитическим инструментом для понимания остро политизированной и противоречивой природы финансиализации и ее связи с правлением Груевского. Туманные и при этом опасно балансирующие «на границе реального и мнимого»[26], эти слухи сопровождали каждую неудавшуюся сделку, представляя Груевского всемогущей тенью – не устойчивого автократического государства, а режима, построенного на неуловимых противоречиях.
Пока я собирал данные, расширение влияния авторитарного правительства Груевского стало сказываться на исследовании, вызывая опасения за пределами аналитической части. Несколько компаний, выразивших интерес к участию в ходе предварительного этапа исследования, отказались от общения, опасаясь политических последствий от раскрытия своих финансовых связей. Оказавшись во враждебном ландшафте, я сузил границы включенного наблюдения в некоторых организациях и решил сосредоточиться на Construx – строительной фирме средней величины с финансовыми проблемами, оставшейся на периферии политической сети ВМРО-ДПМНЕ. Проводя время на ее стройплощадках, вместе с бездействующими рабочими ожидая редких поставок строительных материалов и сопровождая некоторых ее (потенциальных) субподрядчиков, я выслушивал сетования мужчин, пытавшихся разобраться с ошибочными финансовыми решениями. Чтобы выявить источники их тревог, я брал интервью у стейкхолдеров, участвовавших в построении финансовых схем Груевского, отслеживая цепочки финансовых потоков, соединявших рабочих-мужчин с администраторами-, менеджерами- и специалистами-мужчинами в нескольких государственных организациях и министерствах, местных и международных строительных компаниях, а также местных и глобальных финансовых институтах. В конечном итоге эти связи привели меня обратно в Construx и его административные офисы, где я сопровождал (или развлекал) архитекторов, планировщиков и ассистентов, и их женский взгляд на вещи представлял совершенно иную сторону финансиализации.
Получившийся в результате нарратив открывается рассказами из разных гендерных перспектив о рабочих дилеммах, которые помогают объяснить противоречивые отношения, воплощенные в финансовой экспансии[27]. Гендерно специфичные стремления, трудности и страхи, как оказалось, одушевляли часто не связанные между собой встречи, вызывавшие финансы к жизни. Выявить сущностные измерения финансовой экспансии помогает тревожный опыт женщин, который я использовал как линзу, через которую рассказана история мужского мира, где финансовые противоречия связывали во взаимном угнетении македонских рабочих, бюрократов и даже итальянских инвесторов. Хотя этот выбор означал меньше возможности прямого высказывания для женщин, он все же позволил мне подчеркнуть общий опыт в постиндустриальном контексте, в котором привилегии, определявшие идентичность мужчин, испарились, и им пришлось с большим трудом искать новые источники социальной значимости. В Македонии Груевского возможность получения доступа к финансам стала одновременно и доказательством, и инструментом преодоления чувства, что рабочие места и, шире, общество феминизировались – как если бы перехват глобального финансирования мог обеспечить новые направления для хищнического, мужского доминирования[28]. Неудивительно, что протест против Груевского возглавили не закаленные мужчины из рабочего класса, а молодые женщины, которые, как показывает илл. 2, вставали лицом к лицу со спецподразделениями полиции и бросали вызов, физический и символический, финансовой магии Груевского.
Эта книга помещает призрак неликвидности, обнаруженный из разных гендерных перспектив, в широкий исторический и географический контекст, разбирая непосредственную эволюцию политической экономии Македонии. Я потратил много времени на анализ формальных показателей, используемых экономистами для описания общего положения экономики Македонии (и соседних стран), и сбор данных в Македонском национальном архиве, архиве Центрального разведывательного управления (ЦРУ) и других подобных источниках, чтобы исследовать обстоятельства в прошлом, которые создавали основу для режима Груевского. В основе этой книги лежат компаративные вопросы, которые были сформулированы в обсуждении моих архивных и количественных изысканий с политэкономистами и финансовыми экспертами. Результатом стал нарратив со смещенным ритмом, в котором количественные и компаративные вопросы пересекаются с экзистенциальной борьбой македонских рабочих и менеджеров – органический подход к политической экономии, вдохновленный критической философией праксиса, присутствующей в большом количестве неортодоксальных марксистских текстов[29], прослеживающей генеалогию масштабных изменений до микроуровня повседневных действий[30]. В этой отношенческой перспективе кризисы, такие как нефтяные шоки 1970-х, постсоциалистический транзит или глобальный финансовый кризис прошлого десятилетия, не являются лишь экономическими переменами. Напротив, они возникают из обычных событий общественной жизни, открывающихся и закрывающихся пространств политического действия и воображения[31].

Илл. 2. Один из символов Цветной революции: женщина-македонка открыто сопротивляется режиму, используя щит полицейского как зеркало. Фото: Огнен Теофиловский
Ключевую роль в этой истории сыграл глобальный финансовый кризис. Чтобы предотвратить его распространение, финансовые институты выдавали профилактические кредиты небольшим периферийным странам, таким как Македония. Груевский использовал эти кредиты, все более недоступные для независимых компаний, чтобы захватить македонскую экономику. Неверные финансовые решения и отложенные платежи укрепили отношения между авторитарными лидерами и олигархами и изменили отношения рабочих и менеджеров между собой. Без гроша за душой, в изоляции, с уязвимой гендерной и профессиональной идентичностью, рабочие и менеджеры пытались восстановить свою индивидуальность в опоре на нелиберальные моральные ценности, которые ВМРО-ДПМНЕ использовала, чтобы править Македонией. С каждой неудачной сделкой люди оказывались привязанными к режиму все сильнее, и этот финансовый поводок, казалось, был повсюду, хотя часто так и не материализовался.
Постсоциализм и финансовые кризисы
Чтобы понять, почему финансы обрели такую важность для режима Груевского, необходимо проследить его корни в югославской политической экономии и его связи с сетями власти, которые способствовали зависимости социалистической Македонии от глобального импорта и помощи. Между 1945 и 1991 годами Македония была одним из наименее развитых регионов Социалистической Федеративной Республики Югославия (СФРЮ), в которую также входили Словения, Хорватия, Сербия, Босния и Герцеговина, Черногория и два автономных региона – Косово и Воеводина. Благодаря внеблоковому статусу югославского государства, позволявшему СФРЮ иметь дело как с Западом, так и с Советским блоком, недоразвитость Македонии нивелировалась доступом к весьма недорогим кредитам для бизнеса и частных лиц.
Югославские финансы создавали пространство, где политические лидеры, бизнесмены и сотрудники разведки манипулировали международными валютными кредитами, чтобы поддерживать местные производства и гарантировать, что рабочие ощущают рост уровня жизни. В 1970-х рост финансового процветания замедлился в условиях стагнации и инфляции, усугубленных внезапным ростом цен на нефть и глобальных процентных ставок, известных как Волкеровский и нефтяной шоки. С истощением потока международных кредитов европейские партнеры отвернулись от югославской продукции и в начале 1980-х ужесточили политику кредитования. Не сумев получить новые международные займы, Югославия оказалась разорена из-за внешнего долга и гиперинфляции, что открыло путь к выкупам компаний, срежиссированным МВФ и международными кредиторами, в обмен на масштабное ужесточение бюджетной политики и структурные реформы.
В 1990-е годы с падением социалистической системы Югославия, и Македония в особенности, утратили свой геополитический статус и были ввергнуты в спираль финансового сжатия. Схемы дикой приватизации, предписанные международными организациями и реализованные бывшими коммунистическими лидерами, раздробили сферы политической власти и производственной инфраструктуры страны[32]. Как отмечали Вердери и Хамфри, переход от социализма вместо либеральных социальных структур и круга благоприятных возможностей, создаваемых конкуренцией, привел к установлению полуфеодальных порядков, характеризующихся политической раздробленностью и распадом общества[33]. Эта обстановка переходного периода была, судя по всему, полна драматичных, сеющих хаос конфликтов. Олигархи, мафия и банды конкурировали за власть над осколками социалистических государств[34]. В зазорах между этими конфликтами аппаратчики, международные организации и рядовые граждане полагались на старые и новые личные отношения, чтобы преодолеть экономические и бюрократические барьеры путем нелегальных, но морально оправданных компромиссов[35]. Эти неформальные финансовые процессы стали особенно очевидны в периферийных странах, поставленных на грань экономического краха геополитической нестабильностью и криминальной приватизацией, – таких, как Македония, где не только маргинализованные сообщества, но даже государственные учреждения оказались зависимыми от серых форм финансирования и системы семейных связей[36].