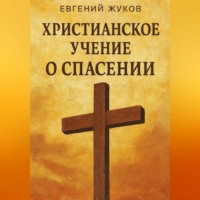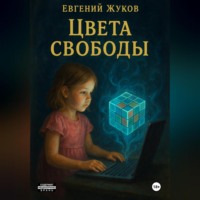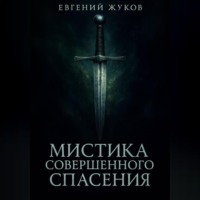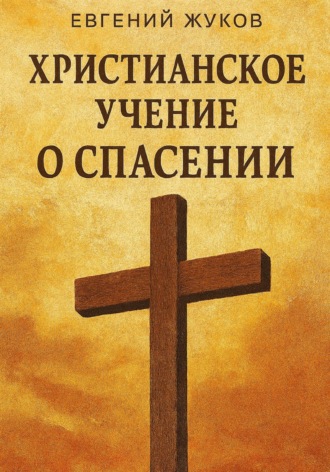
Полная версия
Христианское учение о спасении
Тезис 2
«Что есть зло? Разве это не есть отчуждение от Бога, Который есть Жизнь? Разве это не смерть? Чему же учит западное богословие, говоря о смерти? Все католики и большинство протестантов воспринимают смерть как наказание от Бога. Бог вменил в вину всем людям грех Адама и наказал их смертью, то есть тем, что удалил их от Себя, лишив их Своей благодатной дающей жизнь энергии и таким образом уничтожив их —сначала духовно, посредством некоего духовного голода, а затем и физически. Августин интерпретирует отрывок из книги Бытия: “От дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь” (Быт. 2:17), как: “если вы вкусите плод от этого древа, Я убью вас”. Некоторые же протестанты воспринимают смерть не как наказание, но как нечто естественное (дескать, разве не Бог создатель всех вещей). Так что в обоих случаях Бог для них – истинная причина смерти…
Смерть не была дана нам Богом как кара за грех. Мы сами впали в смерть в результате своего противления Богу. Бог есть жизнь, и жизнь есть Бог. Мы видим, что смерть пришла не в результате повеления Бога, но как следствие того, что Адам омрачил свои отношения с Источником жизни непослушанием; Бог же по Своей благости предупреждал его об этом. Итак, на языке Священного Писания, “справедливый” означает благой и любящий. Если мы говорим о справедливости праведников Ветхого Завета, это не значит, что они были хорошими судьями, но – добрыми и боголюбивыми людьми. Когда мы говорим, что Бог справедлив, мы не подразумеваем, что Он лишь беспристрастный судья, который только и знает, как наказать людей по справедливости, в соответствии с серьезностью их преступлений».
Контраргумент 2
В темных лабиринтах современного православного богословия блуждает призрак неопелагианства, облаченный в пурпурные одежды мнимой духовности. Стремясь оградить Творца от причастности к смерти, эти богословы невольно покушаются на Его всевластие. Они разрывают неразрывную связь между грехом и возмездием, между преступлением и наказанием, превращая Божественную справедливость в бессильный призрак, а человеческую волю – в автономный источник бытия.
Священное Писание не оставляет места для умозрительных построений. Оно с беспощадной ясностью свидетельствует: смерть – это именно наказание, определенное Творцом для Своих мятежных созданий.
«Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23). Эта формула апостола Павла подобна каменной плите, которую не сдвинуть никакими софистическими ухищрениями. Заметьте: не «естественное следствие», не «автоматический результат», но именно «возмездие» (ὀψώνια) – плата, воздаяние от законодателя.
«Посему, как одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому что в нем все согрешили» (Рим. 5:12). Здесь апостол языков выстраивает неразрывную цепь причинности: грех – причина, смерть – следствие. Но кто определил эту связь? Кто установил этот закон? Неужели природа сама собой, помимо Творца, издает нравственные законы?
Попытка отделить Бога от акта наказания смертью противоречит многочисленным свидетельствам Писания. В книге Бытия Господь прямо предупреждает: «В день, в который ты вкусишь от него, смертию умрешь» (Быт. 2:17). Это не констатация естественного закона, но прямая угроза наказания.
После грехопадения Бог выносит приговор: «Прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3:19). Это не безучастное наблюдение, но судебный вердикт. И Писание подтверждает: «И выслал его Господь Бог из сада Едемского» (Быт. 3:23). Не человек сам себя изгнал, но Божественная рука отторгла его от источника жизни.
Книга Иова свидетельствует: «Господь дал, Господь и взял» (Иов 1:21). Псалмопевец восклицает: «Ты возвращаешь человека в тление и говоришь: возвратитесь, сыны человеческие!» (Пс. 89:3). И вновь: не природа, не автономный закон, но Сам Вседержитель определяет срок человеческой жизни.
Православные богословы ошибочно противопоставляют справедливость и любовь, суд и милость. Но разве утверждение Божественного наказания исключает Его любовь?
Напротив, именно потому, что Бог есть любовь, Он и наказывает: «Кого Я люблю, тех обличаю и наказываю» (Откр. 3:19). Именно потому, что Бог благ, Он не оставляет грех без возмездия: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый… но не оставляющий без наказания» (Исх. 34:6–7).
Священное Писание не знает ложной дихотомии между Богом-Судьей и Богом-Любовью. Оно представляет Бога во всей полноте Его качеств, где справедливость и милосердие не противоречат, но дополняют друг друга.
Парадоксальным образом, именно отрицание наказующего аспекта Божественной природы умаляет Его святость. Если Бог остается безучастным к греху, если Он не противится ему всей мощью Своего существа, то Его святость превращается в пустую абстракцию.
Писание свидетельствует: «Ты возненавидел всех, делающих беззаконие» (Пс. 5:6). И это не метафора, но выражение онтологического противостояния между абсолютной чистотой Божественной природы и нечистотой греха.
Пророк Аввакум говорит: «Чистым очам Твоим не свойственно глядеть на злодеяния, и смотреть на притеснение Ты не можешь» (Авв. 1:13). Святость Бога – не просто моральное качество, но огненная реальность, испепеляющая всё нечистое.
В утверждении, что «смерть не была дана нам Богом как кара за грех», православные богословы невольно ограничивают Божественное всевластие. Они создают мир, где действуют автономные законы, независимые от Творца. Но Писание рисует совершенно иную картину: «Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32:39).
Сам Христос утверждает власть Бога над жизнью и смертью: «Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу и тело погубить в геенне» (Мф. 10:28). Если смерть – лишь «естественный закон», независимый от Божьей воли, то как понимать это предупреждение?
Утверждение, что в библейском языке «справедливый» означает лишь «благой и любящий», представляет собой непростительное упрощение. Понятия «tsadaq» в Ветхом Завете и «δίκαιος» в Новом имеют широкий семантический спектр, включающий как идею правосудия, так и благости.
Псалом 88 провозглашает: «Правосудие и правота – основание престола Твоего» (Пс. 88:15). Исаия восклицает: «Господь есть Бог правды: блаженны все уповающие на Него!» (Ис. 30:18). Справедливость Бога – не просто Его благость, но Его верность Своему нравственному закону, Своей святости.
Когда пророк Аввакум вопрошает: «Для чего же Ты смотришь на злодеев и безмолвствуешь, когда нечестивец поглощает того, кто праведнее его?» (Авв. 1:13), он взывает именно к Божественному правосудию, а не просто к Его благости.
Православная попытка «защитить» Бога от причастности к смерти оборачивается глубоким искажением библейского образа Творца. Бог Писания – не безвольный наблюдатель, но суверенный Правитель, не только любящий благостью, но и судящий по правде.
Смерть – не безличный закон, существующий помимо Божественной воли, но проявление Его суверенной власти, Его святого противления греху. «Я образую свет и творю тьму, делаю мир и произвожу бедствия; Я, Господь, делаю все это» (Ис. 45:7) – эти слова пророка Исаии сокрушают все попытки освободить Бога от ответственности за наказание грешников.
Вместо того чтобы искажать ясное свидетельство Писания, восточным богословам следовало бы принять его во всей полноте: Бог и милостив, и справедлив; Он и любит, и гневается; Он и дарует жизнь, и определяет смерть. В этой целостности – величие Его нравственной природы, перед которой остается лишь склониться в благоговейном трепете.
Тезис 3
«Разве западные богословы не воспринимают ад, вечную духовную смерть, как наказание от Бога? И разве они не воспринимают диавола как слугу Божия, осуществляющего наказание людей в аду?… “Бог” Запада —оскорбленный и разгневанный Владыка, переполненный негодованием из-за непослушания людей и жаждущий в Своей разрушительной страсти подвергнуть за грехи вечным мукам все человечество, если только не получит бесконечного удовлетворения Своему оскорбленному величию.
Каков западный догмат спасения? Разве Бог Отец не убил Своего Сына, чтобы принести удовлетворение своей гордыне, которую западные богословы называют эвфемизмом “справедливость”? И разве не благодаря именно этому безмерному удовлетворению Он снисходит, чтобы принять спасение некоторых из нас? Что есть спасение для западного богословия? Разве это не избежание гнева Божия?»
Контраргумент 3
В стремлении создать образ Бога, приятный человеческому слуху, они отсекают грани Божественной природы, превращая огненный алмаз откровения в отполированную гальку религиозного сентиментализма.
Апостол Павел провозглашает с предельной ясностью: «Будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9). Это не периферийное утверждение, но одно из центральных положений апостольской керигмы. Спасение от гнева – не западная выдумка, но сердцевина благой вести.
Что означает это спасение? От чего именно мы спасены? Текст не оставляет места для двусмысленностей: «от гнева» (ἀπὸ τῆς ὀργῆς). Не от безличного закона, не от автоматического следствия, не от естественного процесса, но от Божественного негодования против греха.
Искажение этой истины обнаруживает не «глубину понимания», но глубину отступления от апостольского учения. Как можно спасаться от того, чего нет? Если нет гнева, то и спасение обессмысливается.
Сам Христос предупреждает: «Идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уготованный диаволу и ангелам его» (Мф. 25:41). Кто здесь говорит? Кто изгоняет? Кто проклинает? Не безличный закон, но воплощенный Логос.
В этом изгнании нет противоречия между любовью и справедливостью. Любовь без справедливости вырождается в сентиментальность, а справедливость без любви – в жестокость. Но Божественная природа пребывает в совершенной гармонии. Ад – не изобретение «западных богословов», но реальность, о которой говорит Сам Христос: «И пойдут сии в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46).
Описание «западного Бога» как «оскорбленного и разгневанного Владыки, переполненного негодованием» представляет собой не теологический анализ, но карикатуру, лишенную всякого основания. Настоящее богословие, будь то восточное или западное, никогда не сводило гнев Божий к человекообразной эмоции. Гнев Божий – это не аффект, но проявление Его святости перед лицом греха.
Утверждение, что «Бог Отец убил Своего Сына, чтобы принести удовлетворение Своей гордыне», представляет собой кощунственное искажение учения о заместительной жертве Христа. Западное богословие никогда не учило ничему подобному. Оно утверждало, что Христос добровольно принес Себя в жертву, чтобы удовлетворить требования Божественной справедливости.
Пророк Исаия возвещает: «Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши… Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его мучению» (Ис. 53:5,10). Это не человеческое измышление, но богодухновенное свидетельство. Апостол Павел подтверждает: «Бог предложил Его в жертву умилостивления (ἱλαστήριον) в Крови Его» (Рим. 3:25).
Учение о заместительной жертве пронизывает все Писание – от жертвоприношения Авраама до Агнца Апокалипсиса. Без этого учения христианство утрачивает свою суть, превращаясь в еще одну разновидность морализма.
Поистине поразительно, насколько православные апологеты игнорируют прямые свидетельства Писания. Апостол Павел говорит: «Спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9). Иоанн Креститель предупреждает: «Кто внушил вам бежать от будущего гнева?» (Мф. 3:7). Апостол Иоанн пишет: «Гнев Божий пребывает на нем» (Ин. 3:36).
Это систематическое игнорирование библейских свидетельств невольно наводит на мысль: не с религиозной ли философией мы имеем дело вместо библейского богословия? Не с человеческими ли умозрениями вместо Божественного откровения?
Православный апологет призывает не воспринимать диавола как «слугу Божия, осуществляющего наказание людей в аду». Но Писание свидетельствует: сатана не может выйти за рамки Божественного определения. В книге Иова он не может действовать без Божьего позволения. В Апокалипсисе он будет скован и брошен в бездну. Где здесь автономия? Где независимость от Божественной воли?
Спасение в библейском понимании – это не просто «обожение» или «просветление», но прежде всего избавление от Божественного гнева через заместительную жертву Христа.
Вот суть Евангелия: человек, находившийся под проклятием закона, под гневом Божьим, получает спасение через жертву Христа, принявшего на Себя это проклятие. «Христос искупил нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою» (Гал. 3:13). Что это, как не заместительная жертва?
Целостное библейское богословие не противопоставляет Божественную любовь и Божественную справедливость, милость и суд, благодать и гнев. Оно видит их в совершенном единстве, в гармонии Божественной природы. Крест Христов – высшее выражение этого единства, где любовь и справедливость встречаются в совершенной полноте.
Отрицание гнева Божьего, отказ от учения о заместительной жертве, сведение спасения к «просветлению» или «обожению» без искупления – все это не углубление, но обеднение Евангелия, не прозрение, но слепота перед ясным свидетельством Писания.
В этом – трагедия современного православного богословия: стремясь защитить Бога от «западных искажений», оно само отсекает жизненно важные аспекты библейского откровения, создавая образ Бога, более приемлемый для человеческого разума, но менее соответствующий Божественному самооткровению в Писании.
Тезис 4
«В реальности оппозиция между православием и западным христианством есть ни что иное как увековечение оппозиции между духовным Израилем и язычеством. Мы не должны забывать, что Отцы Церкви воспринимали себя как истинных духовных детей Авраама, что Церковь воспринимает себя как Новый Израиль, и что православные люди, равно греки, русские, болгары, сербы, румыны и т. д., сознавали, что они призваны, как Нафанаил, быть истинными израильтянами, людьми Божиими (см.: Ин. 1:47). И в то время, как это являлось действительным сознанием восточного христианства, Запад все больше становился чадом языческих гуманистических традиций Греции и Рима. Теперь, я надеюсь, вы понимаете, как оклеветан Бог западным богословием. И Августин, Ансельм, Фома Аквинский и все их ученики внесли свой вклад в эту «богословскую» клевету. И это столпы западного богословия, учителя папистов и протестантов».
Контраргумент 4
Какая изощренная ирония скрывается в этих словах! Православие, упрекающее Запад в языческом наследии, само возвело императорский Рим на пьедестал религиозного поклонения. Не кто иной, как Россия веками взращивала в своей духовной утробе идею «Третьего Рима» – политико-религиозного концепта, далекого от евангельской простоты, но пропитанного имперскими амбициями. Византийский орел обратил взор не к Иерусалиму, но к семи холмам цезарей.
Утверждение, что православные народы призваны быть «истинными израильтянами, как Нафанаил», звучит столь же убедительно, как заявление Вольтера о своей глубокой христианской вере. Поразительно, с какой легкостью самопровозглашенные «духовные израильтяне» игнорируют тысячелетнюю традицию библейского толкования, разработанную теми самыми отцами, которых они якобы почитают.
Где в творениях великих восточных отцов обнаруживается отрицание Божественного гнева?
Православная Церковь, высокомерно отрицающая «западное богословие», сама канонизировала значимых отцов, соприкасавшихся с традицией, развитой впоследствии Августином. Амвросий Медиоланский и Иероним Стридонский являлись наставником и современником Августина соответственно, и хотя они не могли разделять полностью его богословскую систему, поскольку она была сформулирована позднее (особенно в вопросах предопределения), они представляли направление мысли, из которого она органично выросла. Григорий Двоеслов и Лев Великий, также почитаемые Православной Церковью как святые, восприняли существенные элементы августинианского учения о благодати. Что касается Фульгенция Руспийского и Проспера Аквитанского, защитников августинианства против полупелагианства, то они формально в православные святцы не входят, хотя некоторые православные богословы и ссылаются на их авторитет.
«Сверх того мы во всем следуем и святым отцам и учителям Церкви, Афанасию [Александрийскому], Иларию [Пиктавийскому], Василию [Великому], Григорию Богослову, Григорию Нисскому, Амвросию [Медиоланскому], Августину [Гиппонскому], Феофилу [Александрийскому], Иоанну Константинопольскому, Кириллу [Александрийскому], Льву [Римскому], Проклу [Константинопольскому], и приемлем все, что они изложили о правой вере и об осуждении еретиков…»38.
Современное «восточное богословие», с таким апломбом отвергающее
«западные заблуждения», само представляет собой синкретическое смешение неоплатонических идей, проникших в христианство через Псевдо-Дионисия Ареопагита – автора, которого даже православные ученые признают сегодня компилятором неоплатонической философии Прокла.
Эта линия развивалась через Максима Исповедника, Григория Паламу. Также об отсутствии Божьего гнева писал Исаак Сирин, который фактически игнорировал постановления Пятого Вселенского Собора, отвергшего идею всеобщего спасения. Впрочем, это, вероятно, объясняется тем, что Исаак принадлежал к несторианской Церкви Востока и мог просто не знать об этих постановлениях (подобно тому, как православные не считают для себя обязательными решения Второго Ватиканского Собора Римско-Католической Церкви). Он также превозносил осужденного ересиарха Федора Мопсуестийского «столпом и светочем Церкви».
Учение Оригена и Евагрия Понтийского о всеобщем спасении было категорически отвергнуто Пятым Вселенским Собором именно потому, что противоречило библейскому учению о Божественном суде и вечном наказании. Примечательно, что похожие идеи, встречающиеся у Григория Нисского, соборному осуждению не подверглись – более того, сам Григорий был включен этим же Собором в авторитетный список отцов Церкви. Тем не менее, эта богословская линия, развивавшаяся в различных вариациях, систематически уклонялась от полного признания реальности Божественного гнева и центральной роли искупительной жертвы Христа – тем, составляющих сердцевину апостольской проповеди.
Поразительно обвинение в адрес Запада в «языческих гуманистических традициях Греции и Рима» из уст тех, кто сам называет себя греческим православием! Не Восток ли, а не Запад, был центром эллинистической учености? Не Византия ли была прямой наследницей римской имперской традиции?
Истинная ирония заключается в том, что и греческое, и русское православие страдают от одной и той же болезни – слияния национального самомнения с религиозной исключительностью. Греческое православие исторически культивирует мессианское самосознание, основанное на убеждении, что именно оно «подарило» христианство миру. Ярко выраженный апломб, с которым греческие богословы выносят приговоры «западным искажениям», питается не столько теологическими соображениями, сколько национальной гордостью хранителей «подлинного эллинизма».
Русское же православие, провозгласившее Москву «Третьим Римом», перенесло этот же шовинистический подход на славянскую почву, обвиняя Западную Церковь в том самом римском наследии, которое само стремилось присвоить. Это все равно что Англия упрекала бы Францию в британском империализме.
Не удивительно, что такие причудливые исторические конструкции возникают в контексте тотального богословского невежества. В то время как западные университеты с XII века развивали систематическое богословие, создавали критические издания отеческих текстов, разрабатывали методы библейской экзегезы, Восточная Церковь погружалась в интеллектуальную спячку.
Первые зачаточные богословские школы появились в России лишь в XVIII веке – почти через семь столетий после основания первых западных университетов! И даже эти школы создавались по западным образцам, с использованием латинских учебников и схоластических методов.
Не удивительно, что в таком контексте возникают фантастические утверждения о «клевете западного богословия» и самопровозглашении себя «истинными израильтянами». Отсутствие критического богословского образования порождает мифы, питаемые национальным самолюбием, но оторванные от исторической и библейской реальности.
Вместо того чтобы выдумывать мифические противостояния «духовного Израиля» и «языческого Запада», православным богословам следовало бы обратиться к изучению подлинной патристической традиции – не избирательно вырванные цитаты из контекста, но целостного учения великих отцов церкви, как восточных, так и западных.
Тогда они обнаружили бы, что Иустин Мученик, Ириней Лионский, Афанасий Великий, Василий Кесарийский, Августин Гиппонский, несмотря на различия в акцентах и формулировках, составляют единую традицию апостольского учения, в котором нет места выдуманной оппозиции «восточного» и «западного» христианства.
И может быть, тогда они перестали бы именовать «клеветниками» тех, кто всего лишь повторяет слова апостола Павла: «Будучи оправданы Кровию Его, спасемся Им от гнева» (Рим. 5:9).
Тезис 5
«Нет, братья, мы должны проснуться, чтобы не быть потерянными для Царства Небесного. Наше вечное спасение или наша вечная смерть зависят не от воли и желания Бога, а от нашей собственной решимости, от выбора нашей свободной воли, которую Бог бесконечно ценит. Будучи убеждены в силе Божественной любви, не дадим, однако, одурачить себя. Опасность исходит не от Бога, она исходит от нас самих».
Контраргумент 5
В сумеречном свете полуистин рождаются чудовища. Самое страшное из них – гордыня, облеченная в одежды благочестия. Утверждение, что «наше вечное спасение или наша вечная смерть зависят не от воли и желания Бога, а от нашей собственной решимости», представляет собой не просто богословскую ошибку, но фронтальную атаку на сердцевину Евангелия.
Это не отклонение от христианства – это его полное отрицание, прикрытое узнаваемой терминологией. Здесь воля человеческая не просто возвышается – она воцаряется на престоле, прежде принадлежавшем только Творцу. Это не «одно из мнений» в рамках православной традиции – это иная религия, религия человекобожия.
Если спасение зависит от «нашей собственной решимости», то непостижимой тайной становится сама Голгофа. Зачем нужна крестная жертва, если человек может спасти себя силой своего выбора? В чем смысл мучительного вопля: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» (Мф. 27:46), если достаточно правильно настроенной воли? Христос превращается в пример благочестия, во вдохновляющий образ, но Он никак не необходимый Искупитель.
Уже ветхозаветное откровение гласит: «Не нам, Господи, не нам, но имени Твоему дай славу» (Пс. 113:9). Как же далеко от этого смирения самоуверенное заявление о «нашей собственной решимости» как о решающем факторе спасения! Отвергая Божественное предопределение, такое богословие отвергает и вечный замысел Отца о Сыне как Агнце, «предназначенном еще прежде создания мира» (1 Пет. 1:20).
Господь провозглашает: «Должно вам родиться свыше» (Ин. 3:7). И когда Никодим недоумевает, Христос поясняет: «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» (Ин. 3:6). Рождение – не результат выбора рождаемого. Никто не выбирает появиться на свет, тем более – родиться свыше. Никто не управляет ветром, даже путем сильной «решимости»: «Ветер дует где хочет» (Ин. 3:8), —говорит Христос. Нет, не решимость влияет на ветер, но Тот, Кому «даже ветер и волны подчиняются» (Мф. 8:27).
Духовное рождение – не плод решимости, но чудо Божественного действия. Апостол Иоанн прямо говорит о верующих как о тех, «которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (Ин. 1:13). Где здесь место для «нашей собственной решимости» как определяющего фактора?
Священное Писание не оставляет места для иллюзий относительно состояния человеческой воли до обращения: «Мертвые по преступлениям и грехам» (Еф. 2:1). Мертвец не может выбирать, не может решаться, не может действовать. Требуется воскрешающее действие Божественной силы.
Предваряющая благодать – не помощь решившемуся, но пробуждение мертвого. Апостол пишет Филиппийцам: «Бог производит в вас и хотение и действие по Своему благоволению» (Флп. 2:13). Не просто действие, но и само желание действовать – дар свыше.
Вера – не продукт нашей решимости, но дар Божий. Апостол прямо говорит: «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар» (Еф. 2:8). И чтобы не осталось сомнений, добавляет: «Не от дел, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:9). Не от решимости, не от выбора, не от усилий воли – только от Бога.