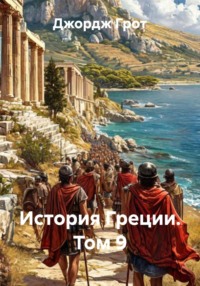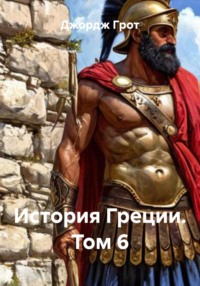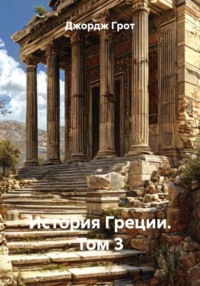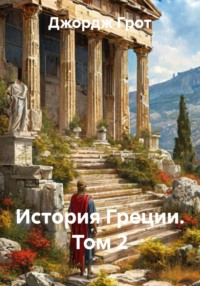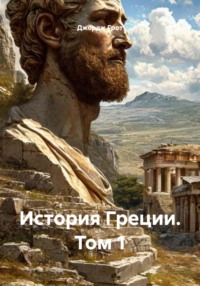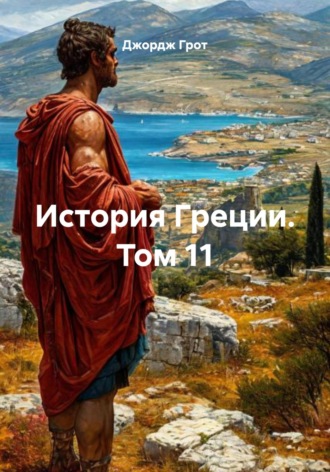
Полная версия
История Греции. Том 11
К сожалению, мы располагаем лишь скудным фрагментом этой эмфатической речи (панегирика в древнем смысле этого слова), произнесенной Лисиасом в Олимпии. Но мы видим тревожную картину того времени, которую он старался передать: Эллада уже порабощена, как на востоке, так и на западе, двумя величайшими властителями эпохи, [62] Артаксерксом и Дионисием, и теперь ее центру угрожает опасность от их совместных усилий. Чтобы ощутить всю вероятность столь мрачного предвидения, мы должны вспомнить, что только в предыдущем году Дионисий, уже владевший Сицилией и значительной частью италийской Греции, перебросил свои морские силы в Иллирию, вооружил иллирийских варваров и отправил их на юг под командованием Алкетаса против молоссов, намереваясь в конечном итоге продвинуться еще дальше и разграбить Дельфийский храм. Лакедемоняне были вынуждены послать войска, чтобы задержать их продвижение. [63] Неудивительно, что Лисий изобразил сиракузского деспота замышляющим скрытые проекты против Центральной Греции и объектом не только ненависти за то, что он сделал, но и ужаса за то, что он собирался сделать вместе с другим великим врагом с востока. 64]
[стр. 31] Из этих двух врагов один (персидский царь) был недосягаем. Но второй – Дионисий – хотя и не присутствовал лично, выставлял себя напоказ через своих послов и роскошные атрибуты, превосходя в этом любого другого присутствующего. Его Теория (торжественное посольство) затмевала всех остальных великолепием шатров и украшений: его колесницы, участвовавшие в гонках, были величественны; его лошади, выведенные из венецианских кровей, привезённых из глубин Адриатического залива, отличались редкой красотой: [65] его стихи, исполнявшиеся лучшими чтецами Греции, вызывали аплодисменты – благодаря мастерству декламации и прекрасному хоровому сопровождению, если не за счёт внутренних достоинств.
Ненависть к Дионисию лишь усиливалась этой демонстрацией роскоши на фоне нищеты изгнанников, которых он лишил имущества, – но теперь у неё появилась конкретная цель, на которую можно было обрушиться. Лисий не упустил возможности воспользоваться этим. Горячо призывая к крестовому походу против Дионисия и освобождению Сицилии, он одновременно указывал на золотой и пурпурный шатёр, возвышавшийся над остальными, где разместились брат тирана и сиракузское посольство. Он убеждал слушателей немедленно совершить акт возмездия, отплатив за страдания свободной Эллады, разграбив шатёр, который своим вызывающим великолепием оскорблял их. Он умолял их вмешаться и не позволить послам этого нечестивого тирана приносить жертвы, выводить колесницы на состязания или участвовать в священном общеэллинском празднике. [66]
[стр. 32] Нет сомнений, что значительная часть зрителей на Олимпийских равнинах в той или иной степени разделяла благородный общеэллинский патриотизм и негодование, выраженные Лисием. Насколько они последовали его неуместным призывам к насилию – действительно ли они напали на шатры или пытались помешать сиракузянам приносить жертвы, либо препятствовали выводу их колесниц для гонок – мы сказать не можем. Сообщается, что некоторые осмелились разграбить шатры: [67] но насколько масштабными были эти действия, неизвестно.
Бесспорно, что элейские надзиратели приложили все усилия, чтобы пресечь любые попытки осквернить праздник, защитив сиракузских послов, их шатры, жертвоприношения и участие в гонках. И, согласно имеющимся сведениям, сиракузские колесницы действительно вышли на старт, хотя по разным причинам позорно провалились – перевернулись и разбились вдребезги. [68]
Для любого, кто задумается об Олимпийском празднестве со всей его торжественностью и состязаниями за различные почести, станет очевидно, что одно лишь проявление столь яростной антипатии, даже если оно сдерживалось и не переходило в действие, должно было крайне оскорбить сиракузских послов. Но ситуация стала бы куда хуже, когда началось чтение стихов Дионисия. Это были добровольные выступления, произносимые (как и речь Лисия) перед теми, кто пожелал прийти и послушать; они не входили в официальную программу празднества и потому не находились под особым покровительством властей Элиды. Дионисий сам вызвался предстать перед слушателями в качестве поэта. Здесь, следовательно, ненависть к тирану могла проявиться в самых безудержных взрывах негодования. И [стр. 33], когда нам говорят, что дурное качество стихов [69] привело к тому, что их встретили оскорбительным смехом, несмотря на превосходное исполнение, нетрудно понять, что ненависть, предназначенная самому Дионисию, обрушилась на его стихи. Разумеется, шипящие и освистывающие дали ясно понять, что они действительно имели в виду, и предались полной свободе, осыпая его имя и поступки проклятиями. Ни лучшие чтецы Греции, ни даже лучшие стихи Софокла или Пиндара не имели бы ни малейшего шанса против такой предвзятой ненависти. И вся сцена завершилась жесточайшим разочарованием и унижением, обрушившимся как на сиракузских послов, так и на исполнителей, став единственным каналом, через которого Эллада могла направить карающее возмездие на автора.
Хотя сам тиран не присутствовал лично в Олимпии, кара глубоко ранила его душу. Одно лишь описание произошедшего повергло его в мучительную скорбь, которая со временем, по мере того как он мысленно возвращался к этой сцене, лишь усиливалась и в конце концов довела его почти до безумия. Его терзало невыносимое осознание глубокой ненависти, которую к нему питали даже в отдаленных и независимых уголках эллинского мира. Ему казалось, что эта ненависть разделяется всеми вокруг, и он подозревал каждого в заговоре с целью лишить его жизни. До такой степени жестокости довела его это болезненное возбуждение, что он схватил нескольких своих ближайших друзей по ложным обвинениям или подозрениям и приказал их казнить. [70] Даже его брат Лептин и старый соратник Филист, люди, которые сначала посвятили свою жизнь его возвышению, а затем служению ему, не избежали этой участи. Навлекая на себя его гнев из-за заключенного без его ведома брака между их семьями, оба были изгнаны из Сиракуз и удалились в Фурии в Италии, где нашли приют и радушный прием, который Лептин особенно заслужил своим поведением во время Луканской войны. Изгнание Лептина длилось, по-видимому, не более года, после чего Дионисий смягчился, вернул его и выдал за него свою дочь. Но Филист оставался в изгнании более шестнадцати лет и вернулся в Сиракузы лишь после смерти Дионисия Старшего и восшествия на престол Дионисия Младшего. [71] Вот какая памятная сцена разыгралась на Олимпийских играх 384 года до н. э. и какое впечатление она произвела на Дионисия. Диодор, хотя и упоминает все факты, придал им оттенок насмешки, объясняя душевные страдания Дионисия исключительно досадой из-за провала его поэмы и относя к 388 и 386 годам до н. э. то, что на самом деле произошло в 384 году до н. э. [72]
Во-первых, маловероятно, чтобы поэма Дионисия – человека способного, имевшего все возможности воспользоваться советами хороших критиков, которых он [стр. 36] специально собрал вокруг себя [73] – оказалась настолько смехотворно плохой, что вызвала отвращение у беспристрастной аудитории. Во-вторых, ещё менее вероятно, чтобы просто поэтическая неудача – хотя, несомненно, огорчительная для него – могла подействовать на него с такой ужасающей силой, что ввергла бы его в отчаяние и безумие. Чтобы так сильно сломить человека вроде Дионисия – запятнанного тяжкими преступлениями беспринципного честолюбца, но при этом отличавшегося завидной стойкостью – требовалась более веская причина. И эта причина становится очевидной, если в полной мере учесть обстоятельства Олимпийских игр 384 года до н. э.
К этому событию он подготовил всё, чтобы предстать, подобно Крёзу в его беседе с Солоном, как самый процветающий и могущественный человек [стр. 37] эллинского мира; [74] средства, недоступные никому из его современников и превосходящие даже прежних героев – Гиерона и Ферона, чьи восхваления в одах Пиндара, вероятно, были у него в мыслях. Он рассчитывал, и не без оснований, что его великолепное посольство, колесницы, а также актёрское исполнение его поэм превзойдут всё, что когда-либо видели на священной равнине. И он вполне ожидал той награды, которую публика всегда охотно дарила богачам, расточавшим свои сокровища в духе общепринятой эллинской благочестивой показухи.
И вот, в этом состоянии напряжённого ожидания, что же слышит Дионисий от своих гонцов, вернувшихся с игр? Что его миссия потерпела полный провал – даже хуже, чем провал; что его показная роскошь не вызвала обычного восхищения, и не потому, что у него были равные или превосходящие соперники, а просто потому, что всё это исходило от него; что само великолепие его представления лишь усилило взрыв неприязни к нему, сделав его громче и яростнее; что его шатры на священной земле были фактически атакованы, и доступ к жертвоприношениям, как и к состязаниям, был ему обеспечен лишь вмешательством властей.
Мы знаем, что его колесницы потерпели неудачу на поле из-за неудачных случайностей, но при том настроении толпы эти самые случайности были использованы как повод для насмешливых выкриков против него. К этому добавились ещё более яростные всплески ненависти, вызванные его поэмами, которые покрыли позором их чтецов.
В тот момент, когда Дионисий ожидал услышать рассказ о беспрецедентном триумфе, ему сообщили не просто о разочаровании, но о прямых и личных оскорблениях – самых горьких, какие только греки могли нанести греку во время священнейшего и многолюднейшего празднества эллинского мира. [75] Ни в каком другом случае мы [стр. 38] не встречаем упоминаний о том, чтобы общественная неприязнь к отдельному лицу достигала такой степени, что оскверняла насилием величественность Олимпийских игр.
Вот они – истинные и достаточные причины, а не просто неудача его поэмы, – которые пронзили душу Дионисия, ввергнув его в отчаяние и временное безумие. Хотя он и заставил умолкнуть Vox Populi в Сиракузах, но все его наёмники, корабли и крепость Ортигия не смогли защитить его от силы этого голоса, когда он так мощно прозвучал против него в устах свободно говорящей толпы в Олимпии.
Вероятно, вскоре после заключения мира в 387 г. до н. э. Дионисий принял в Сиракузах философа Платона. [76] Последний прибыл на Сицилию с целью путешествия и удовлетворения любопытства, особенно чтобы увидеть Этну, и был представлен своими друзьями – философами из Тарента – Диону, тогда еще молодому человеку, жившему в Сиракузах и брату Аристомы, жены Дионисия. О Платоне и Дионе я расскажу подробнее в другом месте; здесь же упоминаю философа лишь в связи с историей и характером Дионисия. Дион, глубоко впечатленный беседами с Платоном, убедил Дионисия также пригласить его и побеседовать. Платон красноречиво рассуждал о справедливости и добродетели, утверждая, что нечестивые люди неизбежно несчастны, что истинное счастье принадлежит лишь [стр. 39] добродетельным, а тираны не могут претендовать на доблесть мужества. [77] Этот краткий пересказ не позволяет нам проследить ход рассуждений философа, но ясно, что он излагал свои взгляды на общественные и политические темы с той же свободой и достоинством перед Дионисием, как и перед любым простым гражданином. Более того, передают, что слушатели были очарованы его манерой и речью. Но не сам тиран. После одной-двух подобных бесед он не только возненавидел учение, но и возымел вражду к самому Платону.
По свидетельству Диодора, он приказал схватить философа, отвести на сиракузский невольничий рынок и выставить на продажу как раба за 20 мин, которые затем собрали и выплатили его друзья, освободив его. По версии Плутарха, Платон сам желал уехать, и Дион посадил его на трирему, отправлявшуюся на родину со спартанским послом Поллисом. Однако Дионисий тайно просил Поллиса убить философа во время плавания или по крайней мере продать в рабство. В результате Платон был высажен на Эгине и там продан. Его выкупил (или перекупил) Анникерид из Кирены и отправил обратно в Афины. Последняя версия более правдоподобна, но факт остается фактом: Платон действительно был продан и на время стал рабом. [78]
То, что Дионисий слушал речи Платона с отвращением, сравнимым разве что с отношением императора Наполеона к идеологам, было вполне ожидаемо. Однако то, что он, не удовлетворившись изгнанием философа, стремился убить, унизить или опозорить его, ярко демонстрирует мстительный и раздражительный характер тирана и показывает, насколько мало он ценил жизни тех, кто стоял у него на пути как политические противники.
В то же время Дионисий занимался новыми постройками – военными, гражданскими и религиозными – в Сиракузах. Он расширил укрепления города, добавив новую линию стен вдоль южного обрыва Эпипол от Эвриала до предместья Неаполис, которое, по-видимому, теперь также было окружено отдельной стеной – или, возможно, это произошло несколькими годами ранее, хотя известно, что в 396 г. до н. э., во время нападения Гимилькона, оно оставалось незащищенным. [79] Вероятно, тогда же крепость Эвриал была расширена и достроена до того величественного состояния, в котором сохранились ее руины. Таким образом, весь склон Эпипол оказался защищен укреплениями от подножия у Ахрадины до вершины у Эвриала. Теперь Сиракузы состояли из пяти отдельных укрепленных частей: Эпиполы, Неаполис, Тихе, Ахрадина и Ортигия – каждая со своими стенами, хотя первые четыре были объединены общими внешними укреплениями. Сиракузы стали самой крупной укрепленной цитаделью во всей Греции, превосходя даже Афины того времени, хотя и уступая им в период Пелопоннесской войны, когда еще стояла Фалерская стена.
Помимо этих обширных укреплений, Дионисий также расширил доки и арсеналы, чтобы обеспечить размещение двухсот военных кораблей. Он построил просторные гимназии на берегах реки Анап за городскими стенами, а также украсил город новыми храмами в честь различных богов. [80]
Эти дорогостоящие новшества придали Сиракузам не только величие, но и безопасность, а также возвысили самого тирана. Они были продиктованы теми же устремлениями, что и его помпезное посольство на Олимпийские игры в 384 г. до н. э., исход которого оказался столь неудачным и оскорбительным для его самолюбия. Эти постройки должны были – и, несомненно, отчасти утешили [стр. 41] сиракузский народ за потерю свободы. Кроме того, они служили подготовкой к войне против Карфагена, которую Дионисий теперь твердо решил возобновить. Ему пришлось искать предлог, поскольку карфагеняне не дали ему законного повода. Но эта война, хотя и была актом агрессии, являлась панэллинской агрессией, [81] рассчитанной на то, чтобы завоевать ему симпатии всех греков – как философов, так и простого народа. И поскольку война началась в год, последовавший за оскорблением, нанесенным ему в Олимпии, можно предположить, что отчасти он хотел совершить подвиги, которые избавили бы его имя от подобного позора в будущем.
Сумма в полторы тысячи талантов, недавно разграбленная из храма в Агилле, [82] позволила Дионисию снарядить большую армию для задуманной войны. Вступив в сговор с некоторыми недовольными подвластными Карфагену городами Сицилии, он побудил их к восстанию и принял в свой союз. Карфагеняне отправили послов с протестом, но не добились удовлетворения, после чего сами начали готовиться к войне: собрали большое войско из наемников под командованием Магона и заключили союз с некоторыми италийскими греками, враждебными Дионисию. Обе стороны распределили силы для действий как в Сицилии, так и на соседнем полуострове Италии, но главные события развернулись в Сицилии, где лично командовали Дионисий и Магон. После нескольких нерешительных стычек произошло генеральное сражение у места под названием Кабала. Битва была кровавой, и обе стороны проявили большое мужество, но в итоге Дионисий одержал полную победу. Сам Магон и десять тысяч его воинов пали, пять тысяч были взяты в плен, а остальные отступили на соседний холм – укрепленный, но лишенный воды. Они вынуждены были отправить послов с мольбой о мире, на который Дионисий согласился, но лишь при условии немедленного вывода всех карфагенян из городов острова и возмещения ему военных издержек. [83]
[стр. 42] Карфагенские военачальники сделали вид, что принимают предложенные условия, но заявили (что, вероятно, было правдой), что не могут гарантировать их выполнение без согласия властей на родине. Они попросили перемирия на несколько дней, чтобы отправить гонцов за инструкциями. Уверенный, что те не смогут ускользнуть, Дионисий удовлетворил их просьбу. Считая освобождение Сицилии от пунийского ига уже свершившимся фактом, он триумфально вознес себя на пьедестал даже выше, чем Гелон. Но именно эта самоуверенность лишила его бдительности и привела к катастрофе – как нередко случалось в греческой военной истории. Разбитая карфагенская армия постепенно оправилась. Вместо погибшего Магона, которого похоронили с почестями, командующим был назначен его сын – юноша необычайной энергии и способностей, сумевший восстановить боевой дух и реорганизовать войска так, что к концу перемирия они были готовы к новому сражению. Вероятно, сиракузяне оказались застигнуты врасплох и не были полностью подготовлены. Во всяком случае, удача отвернулась от Дионисия. В этой второй битве, произошедшей у места под названием Кроний, он потерпел сокрушительное поражение. Его брат Лептин, командовавший одним из флангов, пал в бою, а его отряд был разгромлен; сам Дионисий со своими отборными войсками на другом фланге сначала имел некоторый успех, но в конце концов был разбит и отброшен. Вся армия в беспорядке бежала в лагерь, преследуемая карфагенянами, которые, разъяренные предыдущим поражением, не давали пощады и не брали пленных. Говорят, что четырнадцать тысяч тел побежденных сиракузян были собраны для погребения; остальные спаслись лишь благодаря ночи и укрытию лагеря. [84]
Таков был решительный успех – спасение армии, а возможно, и самого Карфагена, – достигнутый при Кронии юным сыном Магона. Сразу после этого он отступил в Панорм. Его армия, вероятно, была слишком ослаблена предыдущим поражением, чтобы вести дальнейшие наступательные действия; кроме того, он сам еще не имел официального назначения главнокомандующим. Карфагенские власти также проявили благоразумие, воспользовавшись этим благоприятным [стр. 43] моментом для заключения мира, и отправили к Дионисию послов с полномочиями. Но Дионисий добился мира лишь ценой больших уступок: он отдал Карфагену Селинунт с его территорией, а также половину Агригентской области – все земли к западу от реки Галик, – и, кроме того, обязался выплатить Карфагену тысячу талантов. [85] На эти невыгодные условия Дионисий вынужден был согласиться, хотя всего несколькими днями ранее требовал, чтобы карфагеняне очистили всю Сицилию и оплатили военные издержки. Поскольку сомнительно, что у Дионисия была такая сумма наличными, можно предположить, что он обязался выплачивать ее частями. Таким образом, мы находим подтверждение знаменитому заявлению Платона о том, что Дионисий стал данником карфагенян. [86] Вот болезненные пробелы в греческой истории, как она дошла до нас, что мы почти ничего не слышим о Дионисии в течение тринадцати лет после мира 383–382 гг. до н. э. Похоже, что карфагеняне (в 379 г. до н. э.) отправили войско в южную часть Италии с целью восстановления города Гиппония и его жителей. [87] Однако их внимание, видимо, было отвлечено от этого предприятия повторением прежних бедствий – страшной чумы и восстания их ливийских подданных, что серьезно угрожало безопасности их города.
В свою очередь, Дионисий в один из этих лет предпринял некоторые действия, слабый отголосок которых дошел до нас, на том же итальянском полуострове (ныне Калабрия Ультра). Он задумал возвести стену через самую узкую часть полуострова, или перешеек, от залива Скиллетия до залива Гиппония, чтобы отделить территорию Локр от северной части Италии и полностью подчинить ее своей власти. По заявлению, стена предназначалась для отражения набегов луканов, но на самом деле (как нам [стр. 44] сообщают) Дионисий хотел разорвать связь между Локрами и другими греками в Тарентском заливе. Говорят, что последние вмешались извне и помешали осуществлению этого плана; но естественные трудности сами по себе были бы немалым препятствием, и мы не уверены, что стена даже была начата. [88]
За это время в Центральной Греции произошли важные события (описанные в моих предыдущих главах). В 382 г. до н. э. спартанцы хитростью овладели Фивами и разместили постоянный гарнизон в Кадмее. В 380 г. до н. э. они подавили Олинфский союз, достигнув пика своего могущества. Но в 379 г. до н. э. произошла революция в Фивах, осуществленная заговором Пелопида, который изгнал лакедемонян из Кадмеи. Втянутые в тяжелую войну против Фив и Афин, а также других союзников, лакедемоняне постепенно теряли позиции и были значительно ослаблены к моменту мира 371 г. до н. э., который оставил их один на один с Фивами. Затем последовала роковая битва при Левктрах, полностью подорвавшая их военное превосходство. Эти события уже подробно изложены в предыдущих главах.
За два года до битвы при Левктрах Дионисий послал на помощь лакедемонянам на Коркиру эскадру из десяти кораблей, но все они были захвачены Ификратом; примерно через три года после битвы, когда фиванцы и их союзники теснили Спарту в Пелопоннесе, он дважды отправлял туда войско галлов и иберов для подкрепления ее армии. Но его войска ни задержались надолго, ни оказали сколько-нибудь заметной помощи. [89]
В этом году мы слышим о новом нападении Дионисия на карфагенян. Видя, что те были сильно ослаблены чумой и мятежами своих африканских подданных, он счел момент благоприятным, чтобы попытаться вернуть утраченное по условиям мира 383 г. до н. э. Без труда найдя ложный предлог, он вторгся во владения Карфагена в западной Сицилии с большим сухопутным войском – тридцатью ты [стр. 45] сячами пехотинцев и тремя тысячами всадников, а также флотом из трехсот кораблей и соответствующим количеством транспортных судов. Разорив значительную часть открытой территории карфагенян, он сумел овладеть Селинунтом, Энтеллой и Эриксом, а затем осадил Лилибей. Этот город, расположенный близ западного мыса Сицилии, [90] по-видимому, возник как замена соседнему городу Мотия (о котором мы почти ничего не слышим после его захвата Дионисием в 396 г. до н. э.) и стал главной карфагенской базой.
Дионисий начал атаковать его активной осадой и таранами. Но он был так сильно укреплен и так хорошо защищен, что ему пришлось снять осаду и ограничиться блокадой. Его флот стерег гавань, перехватывая подкрепления из Африки. Однако вскоре он получил известие, что в гавани Карфагена произошел пожар, в котором сгорели все его корабли. Решив, что теперь морская угроза со стороны Карфагена исчезла, он отозвал свой флот от Лилибея, оставив сто тридцать военных кораблей поблизости, в гавани Эрикса, а остальные отправив домой в Сиракузы.
Карфагеняне быстро воспользовались этой оплошностью. Пожар в их гавани был сильно преувеличен. У них оставалось еще двести военных кораблей, которые, тайно подготовленные, ночью переправились к Эриксу. Неожиданно появившись в гавани, они застали сиракузский флот врасплох и без серьезного сопротивления захватили и утащили почти все корабли. После такого серьезного успеха Лилибей снова стал открыт для подкреплений и поставок по морю, так что Дионисий счел продолжение блокады бессмысленным. С наступлением зимы обе стороны вернулись на прежние позиции. [91]
Тирану не удалось ничего добиться, возобновив военные действия, да и сицилийские владения карфагенян ничуть не уменьшились по сравнению с тем, что они получили по договору 383 г. до н. э. Однако (примерно в январе или феврале 367 г. до н. э.) он получил известие об успехе иного рода, который доставил ему не меньше радости, чем победа на суше или на море. На Ленейском празднике в [с. 46] Афинах его трагедия была удостоена первой награды. Хорист, участвовавший в постановке, – желая первым сообщить эту новость в Сиракузы и получить награду, которая, естественно, ждала вестника, – поспешил из Афин в Коринф, нашёл там корабль, готовый отплыть в Сиракузы, и, воспользовавшись попутным ветром, быстро добрался до места. Он первым сообщил новость и получил полную награду за свою расторопность. Дионисий был вне себя от радости из-за оказанной ему чести; хотя прежде он занимал второе или третье место на афинских состязаниях, первый приз ему никогда не присуждался. Принеся богам благодарственную жертву, он устроил для друзей роскошный пир, на котором предался веселью с необычайным размахом. Однако радостное возбуждение, усугублённое действием вина, вызвало у него приступ лихорадки, от которой он вскоре скончался, процарствовав тридцать восемь лет. [92]
Тридцать восемь лет жизни, столь насыщенной усилиями, приключениями и опасностями, как у Дионисия, должно было истощить его организм настолько, что он не смог противостоять острой болезни. В течение всего этого долгого периода он никогда себя не щадил. Это был человек неутомимой энергии и активности, как физической, так и умственной; всегда лично возглавлял свои войска в войнах – бдительно следил и твёрдой рукой управлял всеми делами своего государства дома – и при этом находил свободное время (чего, по словам Филиппа Македонского, он никак не мог понять [93]) для сочинения собственных трагедий, участвовавших в честных состязаниях за награды. Его личная храбрость была выдающейся, и дважды он был тяжело ранен, ведя солдат в атаку. Его искусство как честолюбивого политика – военная изобретательность как полководца – и дальновидная забота, с которой он готовил орудия как нападения, так и обороны перед началом войны, – всё это примечательные черты его характера. Римский полководец Сципион Африканский обычно выделял Дионисия и Агафокла (история последнего начинается примерно через пятьдесят лет после смерти первого), обоих сиракузских тиранов, как двух греков, обладавших, по его мнению, величайшими способностями к действию – людей, сочетавших в [с. 47] наиболее впечатляющей степени смелость с мудростью. [94] Эта оценка, исходящая от знатока, подтверждается биографиями обоих, насколько они нам известны. Нельзя назвать другого грека, который, начав с низкого и бесперспективного положения, поднялся бы до таких высот власти у себя на родине, добился бы столь впечатляющих военных успехов за её пределами и сохранил бы своё величие неизменным на протяжении всей долгой жизни. Дионисий хвастался, что оставляет сыну империю, скованную адамантовыми цепями; [95] столь мощной была его наёмная армия – столь прочной его позиция в Ортигии – столь полностью сиракузяне были сломлены и покорены. Нет лучшего доказательства силы и способностей, чем беспрецедентный успех, с которым Дионисий и Агафокл играли роль тирана и, в определённой степени, завоевателя.