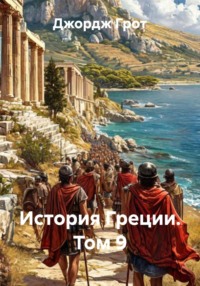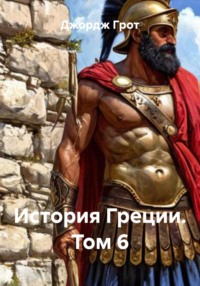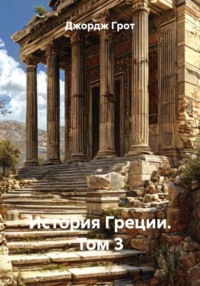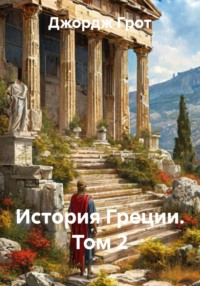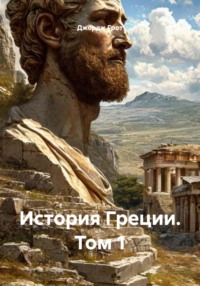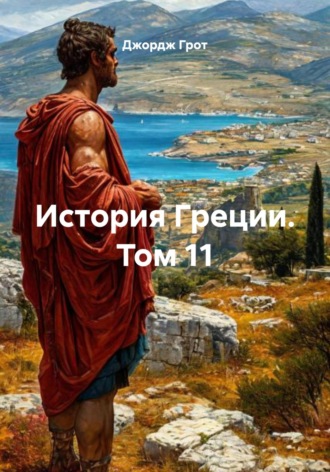
Полная версия
История Греции. Том 11
Более десяти тысяч обезоруженных греков спустились с холма и продефилировали перед Дионисием, который пронумеровал роты по мере их прохождения с помощью палки. Поскольку его жестокий нрав был хорошо известен, они ожидали самого сурового приговора. Тем больше было их удивление и восторг, когда они обнаружили, что к ним отнеслись не только снисходительно, но и великодушно. [32] Дионисий отпустил их всех, даже не потребовав выкупа, и заключил договор с большинством городов, к которым они принадлежали, оставив их автономию ненарушенной. Он получил горячую благодарность, сопровождаемую голосами золотых венков, как от пленников, так и от городов; в то время как среди широкой общественности Греции этот акт приветствовался как составляющий выдающуюся славу его политической жизни. [33] Такое восхищение было вполне заслуженным, если принять во внимание распространенные в то время законы войны.
С кротониатами и другими италийскими греками (кроме Регия и Локрия) Дионисий не имел заметных прежних отношений и поэтому не испытывал сильных личных чувств ни антипатии, ни симпатии. С Регием и Локрием дело обстояло иначе. К локрийцам он был сильно привязан, против регийцев его вражда была горькой и непримиримой, что проявилось в более яркой форме в отличие от недавнего увольнения пленных кротониатов, которое, вероятно, было продиктовано в значительной степени его желанием иметь свободные руки для нападения на изолированный Региум. Завершив все приготовления, связанные с победой, он двинулся к городу и приготовился к его осаде. Горожане, чувствуя себя лишенными надежды на помощь и запуганные бедствием, постигшим их италийских союзников, послали глашатаев просить его об умеренных условиях и умолять воздержаться от крайностей и безмерной суровости. [34] На мгновение Дионисий, казалось, удовлетворил их просьбу. Он даровал им мир при условии, что они сдадут все свои военные корабли, числом семьдесят, заплатят ему триста талантов деньгами и отдадут в его руки сто заложников. Все эти требования были строго соблюдены, после чего Дионисий отозвал свою армию и согласился пощадить город [35].
Следующим его шагом было нападение на Каулонию и Гиппониум, два города, которые, похоже, занимали всю ширину Калабрийского полуострова, сразу к северу от Региума и Локри; Каулония – на восточном побережье, Гиппониум – на западном или вблизи него. Оба эти города он осадил, взял и разрушил: вероятно, ни один из них, учитывая безнадежные обстоятельства дела, не оказал сколько-нибудь упорного сопротивления. Затем он перевез жителей обоих городов, по крайней мере тех, кому не удалось бежать, в Сиракузы, где поселил их в качестве граждан, освободив от налогов на пять лет. [36] Быть гражданином Сиракуз означало в этот момент быть подданным его деспотии, и ничего более: как он освободил место для этих новых граждан или снабдил их землями и домами, мы, к сожалению, не знаем. Но территория обоих этих городов, покинутая свободными жителями (хотя, вероятно, и не рабами, и не крепостными), была передана локрийцам и присоединена к их городу. Этот благосклонный город, принявший его предложение о браке, таким образом, безмерно обогатился как землями, так и коллективной собственностью. И здесь было бы интересно узнать, какие меры были приняты для присвоения или распределения новых земель; но наш информатор молчит.
Таким образом, Дионисий аккумулировал в Сиракузах не только всю Сицилию [37] (говоря языком Платона), но даже немалую часть Италии. Такая массовая смена мест жительства и собственности, вероятно, заняла несколько месяцев; за это время армия Дионисия, похоже, так и не покинула Калабрийский полуостров, хотя сам он, возможно, на некоторое время лично отправился в Сиракузы. Вскоре стало ясно, что опустошение Гиппониума и Каулонии было задумано лишь как прелюдия к разорению Регия. На это Дионисий и решился. Недавний договор, который он заключил с регийцами, был лишь обманом с целью заманить их в ловушку и заставить сдать свой флот, чтобы впоследствии напасть на них с большей выгодой. Переведя свою армию на итальянский берег пролива, недалеко от Регия, он занялся приготовлениями к переправе в Сицилию. Тем временем он отправил регийцам дружеское послание с просьбой снабдить его на короткое время провизией, заверив, что то, что они предоставят, будет быстро заменено из Сиракуз. В случае отказа он намеревался нанести им оскорбление и напасть на них; если они согласятся, то израсходовать их провизию, не выполнив своего обязательства по замене потребленного количества; а затем все-таки напасть, когда их возможности удержаться уменьшатся. Поначалу регийцы охотно подчинялись, поставляя обильные припасы. Но расход продолжался, а отход армии откладывался – сначала под предлогом болезни Дионисия, потом по другим причинам, – так что в конце концов они распознали хитрость и отказались поставлять больше. Дионисий сбросил маску, вернул им сотню заложников и осадил город в форме [38]. Слишком поздно пожалев о том, что лишились средств защиты, регенцы, тем не менее, приготовились держаться со всей энергией отчаяния. Фитон был избран командиром, все население было вооружено, а вся линия стены тщательно охранялась. Дионисий предпринял энергичные штурмы, используя все ресурсы своих таранных машин, чтобы пробить брешь. Но его упорно отбивали со всех сторон, неся большие потери: несколько его машин были сожжены или уничтожены своевременными атаками осажденных. Во время одного из штурмов сам Дионисий был тяжело ранен копьем в пах [p. 19], от чего долго не мог оправиться. В конце концов он был вынужден превратить осаду в блокаду и полагаться только на голод, чтобы покорить этих доблестных граждан. Одиннадцать месяцев держались регенцы под натиском нужды, постепенно усиливавшейся и в конце концов закончившейся мучительным и разрушительным голодом. Нам рассказывают, что медимн пшеницы продавался по огромной цене в пять мин; по курсу около 14 фунтов стерлингов за бушель; каждая лошадь и каждый упряжный зверь были съедены; в конце концов шкуры были сварены и съедены, и даже трава на некоторых частях стены. Многие погибли от абсолютного голода, а оставшиеся в живых потеряли все силы и энергию. В таком невыносимом состоянии они были вынуждены, по истечении почти одиннадцати месяцев, сдаться по собственному желанию.
Эти жертвы голода были так многочисленны, что Дионисий, войдя в Региум, обнаружил груды непогребенных трупов, а также шесть тысяч граждан в последней стадии истощения. Всех этих пленников отправили в Сиракузы, где тем, кто мог предоставить мину (около 3 фунтов 17 шиллингов), позволили выкупить себя, а остальных продали в рабство. После такого периода страданий число тех, кто сохранил средства для выкупа, было, вероятно, очень невелико. Но рейнский генерал Фитон был задержан вместе со всеми своими сородичами, и его ждала иная участь. Сначала по приказу Дионисия утопили его сына, а самого Фитона приковали к одной из самых высоких осадных машин, чтобы он стал зрелищем для всей армии. Пока его выставляли на посмешище, к нему прислали гонца с известием, что Дионисий только что утопил его сына. «Ему повезло больше, чем его отцу, на один день», – ответил Фитон. Через некоторое время страдальца сняли со столба и повели по городу, на каждом шагу бичуя и оскорбляя его, а глашатай громко провозглашал: «Вот человек, уговоривший регийцев на войну, знаменательно наказанный Дионисием!» Фитон, перенося все эти мучения с героическим мужеством и достойным молчанием, был вынужден воскликнуть в ответ глашатаю, что наказание назначено за то, что он отказался предать город Дионисию, которого самого вскоре настигнет божественное возмездие. В конце концов продолжительные бесчинства в сочетании с благородным поведением и высокой репутацией жертвы возбудили страсть даже среди солдат самого Дионисия. Их ропот стал настолько явным, что он начал опасаться открытого мятежа с целью спасения Фитона. Под этим страхом он отдал приказ прекратить мучения и утопить Фитона со всей его родней [39].
Пророческое убеждение этого несчастного в том, что божественное возмездие скоро настигнет его убийцу, ничуть не подтвердилось впоследствии. Могущество и процветание Дионисия, ослабленные его войной с карфагенянами в 383 году до н. э., оставались весьма значительными даже до его смерти. А несчастья, обрушившиеся на его сына, младшего Дионисия, более чем через тридцать лет после этого, хотя они, несомненно, получили религиозное толкование у современных критиков, были, вероятно, приписаны деяниям более поздним, чем варварство, причиненное Фитону. Но эти варварства, если и не были отомщены, то, по крайней мере, были восприняты современным миром с глубоким сочувствием, а поэты даже помянули их с нежностью и пафосом. Пока Дионисий сочинял трагедии (о которых мы еще поговорим) в надежде на аплодисменты в Греции, он сам создавал реальный материал для истории, не менее трагичный, чем страдания тех легендарных героев и героинь, к которым он (как и другие поэты) прибегал за сюжетом. Среди многих актов жестокости, более или менее отягченных, о которых историк Греции обязан рассказывать, мало найдется столь отвратительных, как смерть регского полководца; он не был ни подданным, ни заговорщиком, ни мятежником, но врагом в открытой войне – самое худшее, что мог сказать даже сам Дионисий, это то, что он уговорил своих соотечественников вступить в войну. И даже это нельзя было сказать правдиво, [p. 21] поскольку антипатия регийцев к Дионисию была давней и прослеживалась до его порабощения Наксоса и Катаны, если не до более ранних причин – хотя утверждение Фитона может быть вполне правдивым, что Дионисий пытался подкупить его, чтобы он предал Региум (как генералы Наксоса и Катаны были подкуплены, чтобы предать свои города), и был вне себя от ярости, когда предложение было отвергнуто. Эллинская военная практика сама по себе была достаточно жестокой. И афиняне, и лакедемоняне предавали смерти военнопленных оптом, после взятия Мелоса, после битвы при Игоспотаме и в других местах. Но делать смерть хуже смерти, преднамеренно применяя длительные пытки и унижения, – это не по-эллински; это по-карфагенски и по-азиатски. Дионисий показал себя лучше грека, когда отпустил без выкупа кротонийских пленников, захваченных в битве при Каулонии; но он стал гораздо хуже грека и даже хуже своих собственных наемников, когда обрушил на головы Фитона и его сородичей усугубленные страдания, выходящие за рамки простого смертного приговора.
По приказу Дионисия город Региум был разрушен [40] или разобран. Вероятно, он передал эти земли Локри, как и земли Каулонии и Гиппониума. Все свободные граждане Регии были перевезены в Сиракузы для продажи, а тем, кому посчастливилось спасти свою свободу, предоставив оговоренный выкуп, не разрешили вернуться на родную землю. Если Дионисий так усердствовал в обогащении локрийцев, чтобы передать им два других соседних города-домена, к жителям которых он не питал особой ненависти, то тем более он был бы склонен к подобной передаче регийской территории, чтобы одновременно удовлетворить свою антипатию к одному государству и пристрастие к другому. Правда, Регия не была окончательно включена в состав Локри; но и Каулония, и Гиппоний не были окончательно включены в состав Локри. Сохранение всех трех переходов зависело от верховенства Дионисия и его династии; но на время, последовавшее за взятием Региума, локрийцы стали хозяевами регийской территории, а также двух других городов, и таким образом овладели всем [p. 22] Калабрийским полуостровом к югу от залива Сквиллас. Для италийских греков в целом эти победы Дионисия были фатально гибельны, поскольку политический союз, созданный между ними для противостояния натиску луканов из внутренних районов, был разрушен, и каждый город остался в своей собственной слабости и изоляции [41].
Год 387, в котором Регий сдался, был также отмечен двумя другими памятными событиями: всеобщим миром в Центральной Греции, продиктованным Персией и Спартой, известным как Анталкидов мир, и взятием Рима галлами. [42]
Двумя великими восходящими державами в греческом мире теперь были Спарта на Пелопоннесе и Дионисий в Сицилии; каждая из них укрепилась благодаря союзу с другой. В предыдущей главе [43] я уже описал положение Спарты после Анталкидова мира: как значительно она выиграла, став защитницей этого персидского указа, и как купила себе империю на суше, равную той, которой владела до поражения при Книде, отдав малоазийских греков Артаксерксу, хотя и не вернула себе морского господства, утраченного после того поражения.
Этой великой имперской державе на западе соответствовал Дионисий. Его недавние победы в Южной Италии уже вознесли его могущество выше всех легендарных воспоминаний о Гелоне; но теперь он расширил его ещё дальше, отправив экспедицию против Кротона. Этот город, крупнейший в Великой Греции, подпал под его власть; ему удалось захватить даже его мощную цитадель – благодаря внезапности или подкупу – на скале, нависающей над морем. [44] Кажется, он продвинулся ещё дальше со своим флотом, чтобы атаковать Фурии; этот город был спасён лишь яростью северных ветров. Он разграбил храм Геры возле мыса Лакиний, на землях Кротона. Среди украшений этого храма было одно исключительной красоты и славы, которое во время периодических празднеств выставлялось на восхищённое обозрение: роскошное облачение, искусно вышитое и богато украшенное, посвятительный дар сибарита по имени Алкименид. Дионисий продал это облачение карфагенянам. Оно долго оставалось одним из постоянных религиозных украшений их города, вероятно, посвящённое в честь недавно введённых для поклонения эллинских божеств; которых (как я уже упоминал) карфагеняне в это время особенно стремились умилостивить, надеясь отвратить или смягчить ужасные эпидемии, так часто их поражавшие. Они купили облачение у Дионисия за колоссальную сумму в сто двадцать талантов, или около 27 600 фунтов стерлингов. [45]
Как бы невероятна ни казалась эта сумма, мы должны помнить, что почтение к новым богам оценивалось прежде всего по величине затраченных средств. Поскольку карфагеняне, вероятно, считали, что никакая цена не слишком велика, чтобы перенести непревзойдённое одеяние из гардероба Лакинийской Геры в новоустроенный храм Деметры и Персефоны в их городе, – так же мы можем быть уверены, что утрата такого украшения и осквернение святилища глубоко унизили кротонцев, а вместе с ними и толпы италийских греков, посещавших Лакинийские празднества.
Овладев важным городом Кротоном с цитаделью у моря, которую мог удерживать отдельный гарнизон, Дионисий лишил жителей их южного владения Скиллетия, которое он использовал для возвышения города Локри. [46] Продвинул ли он свои завоевания дальше вдоль Тарентинского залива, чтобы завладеть Турией или Метапонтом, мы не можем сказать. Но обе они должны были быть ошеломлены быстрым расширением и близким приближением его власти; [p. 24] особенно Турия, еще не оправившаяся от катастрофического поражения от луканцев.
Получив в свое распоряжение морские владения в заливе, Дионисий смог расширить свои амбициозные планы даже до далеких ультрамариновых предприятий. Чтобы спастись от его длинной руки, сиракузские изгнанники были вынуждены бежать на большее расстояние, и одна из их частей либо основала, либо была принята в город Анкона, расположенный высоко в Адриатическом заливе. [47] По другую сторону этого залива, в соседстве и союзе с иллирийскими племенами, Дионисий со своей стороны послал флот и основал не одно поселение. К этим планам его подтолкнул лишенный собственности князь эпиротийских молоссов по имени Алкетас, который, проживая в Сиракузах в качестве изгнанника, завоевал его доверие. Он основал город Лиссус (ныне Алессио) на иллирийском побережье, значительно севернее Эпидамна, и помог парийцам основать два греческих поселения, расположенных еще дальше на север в Адриатическом заливе – острова Исса и Фарос. Его адмирал в Лиссе разбил соседние иллирийские прибрежные суда, которые досаждали новопоселившимся парийцам; с иллирийскими племенами, жившими неподалеку от Лисса, он поддерживал тесный союз и даже снабдил большое количество из них греческими паноплями. Утверждается, что целью Дионисия и Алкета было использовать этих воинственных варваров сначала для вторжения в Эпир и восстановления Алкета в его молосском княжестве, а затем для разграбления богатого храма в Дельфах – план далеко идущий, но не невыполнимый, и способный быть поддержанным сиракузским флотом, если бы обстоятельства благоприятствовали его исполнению. Вторжение в Эпир было завершено, и молоссы были разбиты в кровавой битве, в которой, как говорят, было убито пятнадцать тысяч из них. Но дальнейшие планы против Дельф были остановлены вмешательством Спарты, которая направила туда войска и предотвратила все дальнейшие походы на юг. 48] Алкетас, однако, похоже, остался князем части Эпира, на территории, почти противоположной [p. 25] Коркире; где мы уже узнали его, в предыдущей главе, как зависимого от Ясона Ферейского в Фессалии.
Другим предприятием, предпринятым Дионисием в это время, была морская экспедиция вдоль берегов Лациума, Этрурии и Корсики; отчасти под предлогом пресечения пиратства, совершаемого из их приморских городов, а отчасти с целью разграбления богатого и священного храма Лейкотеи в Агилле или его морском порту Пирги. В этом он преуспел, лишив его денег и драгоценных украшений на сумму в тысячу талантов. Агиллейцы выступили на защиту своего храма, но были полностью разбиты и потеряли столько награбленного и пленных, что Дионисий, вернувшись в Сиракузы и продав пленных, получил дополнительную прибыль в пятьсот талантов [49].
Дионисий достиг такой военной славы [50], что галлы из Северной Италии, недавно разграбившие Рим, прислали предложить ему свой союз и помощь. Он принял предложение; возможно, именно отсюда берут свое начало галльские наемники, которых мы впоследствии находим на его службе в качестве наемников. Его длинные руки теперь простирались от Лисса с одной стороны до Агиллы с другой. Хозяин большей части Сицилии и Южной Италии, а также самой мощной постоянной армии в Греции, беспринципный грабитель самых святых храмов повсюду [51] – он внушал ужас и неприязнь всей Центральной Греции. Он был тем более уязвим для этих настроений, что был не только принцем-триумфатором, но и трагическим поэтом; конкурентом, как таковым, за аплодисменты и восхищение, которые не может вырвать никакая сила. Поскольку ни одна из его трагедий не сохранилась, мы не можем составить о них никакого собственного мнения. Однако когда мы узнаем, что он занял второе или третье место, а одна из его композиций получила даже первый приз на Ленейском фестивале в Афинах [52] в 368—367 гг. до н. э. – благосклонное мнение афинской публики дает веские основания предполагать, что его поэтические таланты были значительными.
Однако в годы, последовавшие за 387 годом до н. э., Дионисий-поэт вряд ли мог получить беспристрастное слушание. Ведь, с одной стороны, его окружение аплодировало бы каждому слову, а с другой – большая часть независимых греков была бы настроена против услышанного из-за страха и ненависти к автору. Если верить анекдотам, рассказанным Диодором, мы должны были бы сделать вывод не только о том, что трагедии были презренными сочинениями, но и о том, что раздражительность Дионисия в отношении критики была преувеличена до глупой слабости. Дифирамбический поэт Филоксен, житель или гость Сиракуз, услышав частное чтение одной из этих трагедий, спросил его мнение. Он высказал неблагоприятное мнение, за что был отправлен в тюрьму: [53] на следующий день заступничество друзей обеспечило ему освобождение, и впоследствии он сумел с помощью тонкого остроумия и двусмысленных фраз выразить оскорбительное настроение, не нарушая истины. На олимпийском празднике 388 года до н. э. Дионисий отправил в Олимпию несколько своих сочинений вместе с лучшими актерами и хористами, которые должны были их декламировать. Но стихи были настолько презренными (нам рассказывают), что, несмотря на все преимущества декламации, они были позорно осмеяны; более того, актеры, возвращаясь в Сиракузы, потерпели кораблекрушение, а команда корабля приписала все страдания своего путешествия дурному характеру доверенных им стихов. Однако льстецы Дионисия, как говорят, продолжали превозносить его гений и уверять, что его конечный успех как поэта, хотя и прерванный на время завистью, непогрешим; Дионисий поверил и продолжал сочинять трагедии, не унывая [54].
Среди этих злобных насмешек, распространяемых остроумцами за счет княжеского поэта, мы можем проследить некоторые важные [p. 27] факты. Возможно, в 388 году до н. э., но, несомненно, в 384 году до н. э. (оба года – олимпийские) Дионисий послал трагедии, чтобы их читали, и колесницы, чтобы они бежали перед толпой, собравшейся на праздник в Олимпии. 387 год до н. э. был памятным годом как в Центральной Греции, так и на Сицилии. В первой он ознаменовался заключением Анталкидова мира, который положил конец восьмилетней войне: во второй – завершением италийской кампании Дионисия, поражением и унижением Кротона и других италийских греков, а также подрывом трех греческих городов – Гиппониума, Каулонии и Региума – судьба регийцев была отмечена самыми жалкими и впечатляющими инцидентами. Первый олимпийский фестиваль, состоявшийся после 387 года до н. э., был, соответственно, выдающейся эпохой. Два предыдущих фестиваля (392 и 388 гг. до н. э.), которые отмечались в разгар всеобщей войны, не были посещены значительной частью эллинского населения, поэтому следующий фестиваль, 99-я Олимпиада в 384 г. до н. э., был отмечен особым характером (как и 90-я Олимпиада [55] в 420 г. до н. э.) как объединяющий в религиозном братстве тех, кто долгое время был разлучен. [56] Для каждого честолюбивого грека (как и для Алкивиада в 420 г. до н. э.) было предметом необычных амбиций выступить на таком празднике в качестве индивидуального деятеля. Для Дионисия это было особенно соблазнительно, так как он торжествовал над всеми соседними врагами – на вершине своего могущества – и был отстранен от всех войн, требующих его личного командования. Поэтому он отправил туда свою Теору, или торжественную делегацию для жертвоприношения, одетую в богатейшие одежды, обставленную золотыми и серебряными блюдами и снабженную великолепными палатками, которые служили им для проживания на священной земле Олимпии. Кроме того, он послал несколько колесниц и четыре колесницы для участия в регулярных гонках на колесницах; и, наконец, он также послал чтецов и хористов, искусных и высококвалифицированных, чтобы они демонстрировали его собственные поэтические произведения перед теми, кто желал их услышать. Следует [p. 28] помнить, что поэтическая декламация не входила в официальную программу фестиваля.
Все это невероятное снаряжение под руководством Теарида, брата Дионисия, было выставлено перед олимпийской толпой с ослепительным эффектом. Ни одно имя не стояло перед ними так ярко и демонстративно, как имя сиракузского деспота. Каждый человек, даже из самых отдаленных регионов Греции, был побужден поинтересоваться его прошлыми подвигами и характером. Вероятно, среди присутствующих было немало людей, готовых ответить на подобные вопросы – многочисленные страдальцы из италийской и сицилийской Греции, которых его завоевания бросили в изгнание; их ответы должны были вызвать сильнейшую антипатию к Дионисию. Помимо многочисленных случаев обезлюживания и мутации населения, которые он произвел в Сицилии, мы уже видели, что в течение последних трех лет он уничтожил три свободные греческие общины – Регий, Каулонию и Гиппонию, переведя всех жителей двух последних в Сиракузы. В случае с Каулонией произошло случайное обстоятельство, которое произвело на зрителей яркое впечатление своим недавним исчезновением. Бегуном, завоевавшим главный приз на стадионе в 384 году до н. э., был Дикон, уроженец Каулонии. Это был человек с необычайно быстрой ногой, прославившийся своими предыдущими победами на стадионе и всегда провозглашавшийся (по обычаю) вместе с названием своего родного города – «Дикон Каулониат». Слышать, как этот знаменитый бегун теперь провозглашается «Диконом Сиракузским», [57] придавало болезненную огласку тому факту, что свободная община Каулонии больше не существует, – и поглощению греческой свободы, осуществленному Дионисием.
Прослеживая историю событий в Центральной Греции, я уже останавливался на сильных чувствах, возбужденных среди греческих патриотов Анталкидским миром, по которому Спарта стала демонстративным защитником и исполнителем персидского рескрипта, приобретенного путем передачи азиатских греков Великому царю. Естественно, что эти эмоции проявились на следующем олимпийском празднике в 384 году до н. э., где после долгой разлуки воссоединились не только спартанцы, афиняне, фиванцы и коринфяне, но и азиатские и сицилийские греки. Эмоции нашли красноречивого выразителя в лице оратора Лисия. Происходя из сиракузских предков и будучи когда-то гражданином Фурий, [58] Лисий имел особые основания для симпатии к сицилийским и италийским грекам. Он произнес публичную речь о текущем состоянии политических дел, в которой остановился на скорбном настоящем и серьезных опасностях будущего. «Греческий мир (сказал он) сгорает с обеих сторон. Наши восточные братья перешли в рабство к Великому царю, наши западные – к деспотизму Дионисия. [59] Эти двое – великие властители, как в морской силе, так и в деньгах, настоящих инструментах господства: [60] если они оба объединятся, они уничтожат то, что осталось от свободы в Греции. Им было позволено совершить все эти разрушения без сопротивления из-за раздоров между ведущими греческими городами; [p. 30] но теперь настало время, чтобы эти города сердечно объединились, чтобы противостоять дальнейшему разрушению. Как может Спарта, наш законный президент, сидеть спокойно, пока эллинский мир пылает и уничтожается? Несчастья наших разоренных братьев должны быть для нас как свои собственные. Не будем бездействовать, ожидая, пока Артаксеркс и Дионисий нападут на нас объединенной силой: давайте пресечем их дерзость сразу, пока это еще в наших силах» [61].