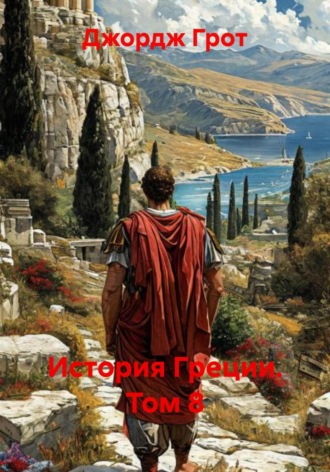
Полная версия
История Греции. Том 8
Согласно Диодору, Эндий, получив слово в афинском народном собрании, предложил афинянам заключить мир со Спартой на следующих условиях:
– Каждая сторона остаётся на своих текущих позициях;
– Гарнизоны обеих сторон выводятся;
– Происходит обмен пленными – один лакедемонянин за одного афинянина.
В своей речи Эндий подчёркивал взаимный ущерб, который обе стороны несли от продолжения войны, но утверждал, что Афины страдали гораздо сильнее и потому были больше заинтересованы в скорейшем мире. У них не было денег, в то время как у Спарты был Великий царь в качестве плательщика [с. 123]. Аттика разорялась гарнизоном в Декелее, в то время как Пелопоннес оставался нетронутым. Вся мощь и влияние Афин зависели от превосходства на море, тогда как Спарта могла обойтись без него и сохранить своё господство [171].
Если верить Диодору, все наиболее разумные граждане Афин рекомендовали принять это предложение. Против выступили только демагоги и смутьяны, привыкшие разжигать пламя войны ради собственной выгоды. Особенно яростно возражал демагог Клеофон, пользовавшийся тогда большим влиянием. Он говорил о блеске недавней победы и новых перспективах успеха, которые теперь открывались перед Афинами. В результате народное собрание отвергло предложение Эндия [172].
Тем, кто писал после битвы при Эгоспотамах и захвата Афин, было легко рассуждать задним числом и повторять стандартные обвинения в адрес безумного народа, введённого в заблуждение коррумпированным демагогом. Но если отвлечься от нашего знания финального исхода войны и взглянуть на суть этого предложения (даже если считать его официальным и санкционированным) и время, в которое оно было сделано, то мы усомнимся в том, что Клеофон был глуп или, тем более, корыстен, рекомендуя его отвергнуть.
Что касается обвинения в корыстной заинтересованности в продолжении войны, я уже высказывался о Клеоне, отмечая, что подобный интерес нельзя справедливо приписывать демагогам такого типа [173]. По своей природе они были невоинственными людьми и имели столь же высокие шансы лично проиграть от войны, как и выиграть. Это особенно верно в отношении Клеофона в последние годы войны, поскольку финансовое положение Афин было настолько тяжёлым, что все доступные средства уходили на флот и армию, почти не оставляя излишков для политических махинаций. Адмиралы, оплачивавшие моряков за счёт контрибуций за границей, возможно, могли обогащаться, но у политиков дома шансов на подобные доходы было гораздо меньше, чем в мирное время [с. 124].
Более того, даже если бы Клеофон и извлекал выгоду из продолжения войны, в случае окончательного поражения Афин он наверняка лишился бы не только всех своих доходов и положения, но и жизни.
Так что обвинение в корысти несостоятельно. Вопрос о том, был ли его совет разумным, решить сложнее.
Если рассматривать момент, когда было сделано предложение, следует помнить, что пелопоннесский флот в Азии был только что уничтожен, и само краткое донесение Гиппократа эфорам, столь ярко описывающее бедственное положение его войск, в тот момент находилось перед афинским собранием. С другой стороны, депеши афинских стратегов, возвещавшие о победе, вызвали всеобщий триумф, выразившийся в публичном благодарственном молебне в Афинах [174]. Не приходится сомневаться, что Алкивиад и его коллеги обещали значительные будущие успехи, возможно, даже возвращение большей части утраченной морской империи.
В таком настроении афинского народа и их полководцев, во многом оправданном реальным положением дел, какое предложение вносит Эндий?
По сути, он не предлагает никаких уступок. Обе стороны остаются на своих позициях, гарнизоны выводятся, пленные обмениваются. Единственное преимущество, которое Афины получили бы, приняв эти условия, – это вывод своего гарнизона из Пилоса и избавление от спартанского гарнизона в Декелее. Такой обмен был бы для них значительным плюсом. К этому можно добавить облегчение от простого прекращения войны, что, несомненно, было бы важно.
Но вопрос в том, посоветовал бы государственный деятель уровня Перикла своим согражданам удовлетвориться такими уступками сразу после великой победы при Кизике и двух меньших побед перед ней? Склонен думать, что нет. Скорее, он увидел бы в этом дипломатическую уловку, рассчитанную на то, чтобы парализовать Афины в тот момент, когда их враги были беззащитны, и выиграть время для постройки нового флота [175].
Спарта не могла ручаться ни за Персию, ни за своих пелопоннесских союзников – прошлый опыт показал, что это ей не удавалось. Таким образом, приняв предложение, Афины не получили бы реального освобождения от бремени войны, а лишь притупили бы боевой дух и связали руки своим войскам в момент, когда те чувствовали себя на гребне успеха.
Для армии и флота, а особенно для стратегов – Алкивиада, Ферамена и Фрасибула – принятие таких условий в такой момент было бы равносильно позору. Это лишило бы их завоеваний, на которые они страстно (и в тот момент небезосновательно) надеялись – завоеваний, способных вернуть Афинам их недавно утраченное величие. И это унижение было бы нанесено не только без компенсирующих выгод, но и с высокой вероятностью необходимости в ближайшем будущем удваивать усилия, когда наступит благоприятный момент для врагов.
Таким образом, если отойти от расплывчатых обвинений в адрес демагога Клеофона, якобы стоявшего между Афинами и миром, и рассмотреть конкретные условия мира, которые он убедил своих сограждан отвергнуть, окажется, что у него были очень веские, если не подавляющие, основания для такого совета.
Вопрос о том, попытался ли он использовать это само по себе неприемлемое предложение для выработки более подходящих и долговечных условий мира, остаётся открытым. Вероятно, даже если бы такие попытки были предприняты, они не увенчались бы успехом. Но государственный деятель уровня Перикла попробовал бы, понимая, что Афины ведут войну в невыгодных условиях, которые в долгосрочной перспективе их погубят. А вот оппозиционный оратор вроде Клеофона, даже правильно оценивая текущее предложение, не заглядывал так далеко в будущее.
Тем временем афинский флот безраздельно господствовал в Пропонтиде и двух прилегающих проливах – Боспоре и Геллеспонте. Хотя рвение и щедрость Фарнабаза не только обеспечивали пропитание и одежду пострадавшим морякам разгромленного флота, но и способствовали постройке новых кораблей взамен утраченных.
Пока он вооружал моряков, выплачивал им двухмесячное жалование и размещал их вдоль побережья сатрапии в качестве гарнизонов, он также предоставил неограниченные запасы корабельного леса из богатых лесов горы Ида и помогал офицерам строить новые триеры в Антандре, близ которого, в местечке Аспан, в основном заготавливалась идайская древесина [176].
Осуществив эти приготовления, Фарнабаз направился на помощь Халкедону, который афиняне уже начали атаковать.
Первым их действием после победы был поход на Перинф и Селимбрию, ранее отпавшие от Афин. Перинф, напуганный недавними событиями, сдался и вновь перешёл на сторону Афин. Селимбрия отказалась подчиниться, но откупилась от нападения, заплатив денежный штраф. Затем Алкивиад повёл флот к Халкедону, расположенному напротив Византия на южном азиатском берегу Боспора.
Контроль над этими двумя проливами – Боспором и Геллеспонтом – имел для Афин первостепенное значение. Во-первых, это обеспечивало беспрепятственный проход хлебных кораблей из Понта для снабжения города. Во-вторых, это позволяло взимать пошлину с торговых судов, проходящих через проливы, подобно датским звуковым пошлинам, существовавшим вплоть до наших дней. По тем же причинам эти позиции были столь же важны для врагов Афин.
До весны предыдущего года Афины безраздельно владели обоими проливами. Но восстание Абидоса в Геллеспонте (примерно в апреле 411 г. до н. э.) и Византия с Халкедоном в Боспоре (примерно в июне 411 г. до н. э.) лишили их этого превосходства. В последние месяцы снабжение могло осуществляться лишь в те периоды, когда афинские флоты имели перевес и могли обеспечить сопровождение. Вероятно, поставки зерна из Понта осенью 411 г. до н. э. были значительно ограничены [с. 127].
Хотя сам Халкедон, поддерживаемый Фарнабазом, ещё держался, Алкивиад занял его незащищённый порт – Хрисополь, расположенный на восточном берегу Боспора напротив Византия. Он укрепил это место, разместил там эскадру с постоянным гарнизоном и превратил его в таможенный пункт для сбора пошлины со всех судов, выходящих из Понта [177].
Афиняне, по-видимому, традиционно взимали эту пошлину в Византии до его отпадения как часть своих постоянных доходов. Теперь она была восстановлена стараниями Алкивиада. Поскольку пошлина на суда, доставлявшие товары для продажи и потребления в Афинах, в конечном итоге оплачивалась афинскими гражданами и метеками в виде повышенных цен, тридцать триер под командованием Ферамена остались в Хрисополисе для обеспечения сбора, сопровождения дружественных торговых судов и прочих действий против врага.
Остальной флот направился частично в Геллеспонт, частично во Фракию, где ослабление спартанского морского присутствия уже сказывалось на верности городов. Особенно на Фасосе [178] граждане во главе с Экфантом изгнали спартанского гармоста Этеоника с его гарнизоном и приняли Фрасибула с афинским отрядом.
Напомним, что это был один из городов, где Писандр и Четыреста заговорщиков (в начале 411 г. до н. э.) свергли демократию и установили олигархическое правление, утверждая, что союзные города станут верны Афинам, как только те избавятся от демократических институтов. Все расчёты этих олигархов провалились, как и предсказывал Фриних с самого начала. Фасосцы, как только их собственная олигархическая партия пришла к власти, вернули своих недовольных изгнанников [179], при содействии которых позже был введён лаконский гарнизон и гармост.
Этеоник, теперь изгнанный, обвинил спартанского адмирала Пасиппида в том, что тот сам участвовал в изгнании, получив взятку от Тиссаферна. Обвинение маловероятное, но спартанцы ему поверили и изгнали Пасиппида, назначив вместо него Кратесиппида. Новый адмирал обнаружил на Хиосе небольшой флот, который Пасиппид уже начал собирать у союзников, чтобы восполнить недавние потери [180].
Настроение в Афинах после недавних морских побед стало более оптимистичным и энергичным. Агис, несмотря на то что афиняне не могли помешать его гарнизону в Декелее опустошать Аттику, однажды, приблизившись к городским стенам, был отброшен с решительностью и успехом Фрасиллом. Но больше всего лакедемонского царя огорчало то, что с его возвышенной позиции в Декелее он видел, как осенью 410 г. до н.э., после захвата Алквиадом Боспора и Геллеспонта, в Пирей вновь начали прибывать многочисленные хлебные корабли с Понта. Для безопасного приёма этих судов вскоре был укреплён Торик. Агис воскликнул, что бессмысленно лишать афинян урожая Аттики, если им доставляют обильный импортный хлеб. Поэтому он совместно с мегарцами снарядил небольшую эскадру из пятнадцати триер и отправил на ней Клеарха в Византий и Халкедон. Этот спартанец был гостем византийцев и ранее уже был выбран для командования вспомогательными силами, предназначенными для этого города. Похоже, он начал плавание следующей зимой (410–409 гг. до н.э.) и благополучно достиг Византия, хотя три корабля из его эскадры были уничтожены девятью афинскими триерами, охранявшими Геллеспонт.[181] [стр. 129]
Следующей весной Фрасилл был отправлен из Афин во главе большого нового войска для действий в Ионии. Он командовал пятьюдесятью триерами, тысячью гоплитов, сотней всадников и пятью тысячами моряков, которых можно было вооружить как пельтастов; также у него были транспортные суда для войск помимо триер.[182] Дав своему войску три дня отдыха на Самосе, он высадился у Пигелы, а затем успешно овладел Колофоном с его гаванью Нотием. После этого он угрожал Эфесу, но тот был защищён значительными силами, собранными Тиссаферном под лозунгом «идти на помощь богине Артемиде», а также двадцатью пятью свежими сиракузскими и двумя селинунтскими триерами, недавно прибывшими.[183] В битве под Эфесом Фрасилл потерпел тяжёлое поражение от этих врагов, потерял триста человек и был вынужден отплыть в Нотий; оттуда, похоронив павших, он двинулся на север к Геллеспонту. По пути, остановившись на время в Метимне на севере Лесбоса, Фрасилл увидел двадцать пять сиракузских триер, проплывавших мимо по пути из Эфеса в Абидос. Он немедленно атаковал их, захватил четыре вместе со всем экипажем и отогнал остальных обратно к их стоянке в Эфесе. Все пленные были отправлены в Афины и помещены под стражу в каменоломни Пирея – несомненно, в отместку за обращение с афинскими пленными в Сиракузах. Однако следующей зимой им удалось прорыть выход и бежать в Декелею. Среди пленных оказался Алквиад, афинянин, двоюродный брат и товарищ по изгнанию афинского стратега того же имени; Фрасилл приказал отпустить его, тогда как остальных отправили в Афины.[184]
После задержки, вызванной этим преследованием, он вернул своё войско к Геллеспонту и соединился с силами Алквиада в Сесте. Их объединённые силы, вероятно, в начале осени, были переправлены на азиатский берег пролива в Лампсак, который они укрепили и сделали своей штаб-квартирой на осень и зиму, поддерживая себя грабительскими набегами на соседнюю сатрапию Фарнабаза. Однако любопытно, что когда Алквиад попытался построить всех вместе – гоплитов, по афинскому обычаю, выстроившихся по филам, – его собственные солдаты, ещё не знавшие поражений, отказались сражаться бок о бок с воинами Фрасилла, недавно разбитыми под Эфесом. Это отчуждение исчезло лишь после совместного похода на Абидос: Фарнабаз, явившийся с большим войском, особенно конницей, чтобы помочь городу, был встречен и разбит в битве, в которой участвовали все присутствовавшие афиняне. После этого честь гоплитов Фрасилла была восстановлена, и объединение рядов произошло без дальнейших трудностей.[185] Однако даже всё войско не смогло взять Абидос, который пелопоннесцы и Фарнабаз удерживали как свою базу на Геллеспонте.
Тем временем Афины настолько ослабили себя, отправив крупные силы с Фрасиллом, что их ближайшие враги активизировались. Спартанцы снарядили экспедицию, включавшую как триеры, так и сухопутные войска, для атаки Пилоса, который оставался афинским форпостом и убежищем для восставших илотов со времён его первоначального укрепления Демосфеном в 425 г. до н.э. Город подвергся яростной атаке с моря и суши и вскоре оказался в тяжёлом положении. Афиняне, помня о его бедствии, отправили на помощь тридцать триер под командованием Анита, но тот вернулся, даже не достигнув места, так как штормовая погода или неблагоприятные ветра помешали ему обогнуть мыс Малея. Вскоре после этого[стр. 131] Пилос был вынужден сдаться, и гарнизон покинул его на условиях капитуляции.[186] Однако Анит по возвращении столкнулся с недовольством сограждан и был предан суду за то, что якобы предал доверие или не сделал всего возможного для выполнения возложенной на него задачи. Говорят, он избежал осуждения лишь благодаря подкупу дикастерия и стал первым афинянином, оправданным благодаря коррупции.[187] Мог ли он действительно достичь Пилоса, и были ли препятствия, с которыми он столкнулся, непреодолимыми, мы не можем судить; тем более – правда ли, что он спасся подкупом. Однако эта история, видимо, доказывает, что афинская публика считала его виновным и была настолько удивлена оправданием, что объяснила его использованием средств, ранее не применявшихся.
Примерно в то же время мегарцы неожиданно отбили свою гавань Нисею, которую афиняне удерживали с 424 г. до н.э. Афиняне попытались вернуть её, но потерпели неудачу, хотя и разбили мегарцев в сражении.[188]
Летом 409 г. до н.э. Фрасилл, а затем и объединённые силы Фрасилла и Алквиада осенью того же года добились меньшего, чем можно было ожидать от такой крупной армии: по-видимому, именно в этот период лакедемонянин Клеарх с пятнадцатью мегарскими кораблями прорвался через Геллеспонт к Византию, обнаружив, что его охраняют лишь девять афинских триер.[189] Однако операции 408 г. до н.э. оказались более значительными. Все силы под командованием Алквиада и других стратегов были собраны для осады Халкедона и Византия. Халкедонцы, предупреждённые о планах афинян, отправили своё движимое имущество на хранение к соседям-битинийским фракийцам – примечательное свидетельство добрых отношений между ними, резко контрастирующее с постоянной враждой по другую сторону Боспора между Византием и соседними фракийскими племенами.[190] Однако эта мера была сорвана Алквиадом, который вторгся на территорию битинийцев и угрозами заставил их выдать доверенное имущество. Затем он приступил к блокаде Халкедона, построив деревянную стену от Боспора до Пропонтиды, хотя её непрерывность прерывалась рекой и, по-видимому, неровной местностью у её берегов. Когда стена была уже завершена, появился Фарнабаз с армией для помощи городу и продвинулся до Гераклеона – храма Геракла, принадлежавшего халкедонцам. Воспользовавшись его приближением, Гиппократ, лакедемонский гармост в городе, предпринял яростную вылазку. Однако афиняне отразили все попытки Фарнабаза прорваться через их линии и соединиться с ним, так что после упорного боя атакующие были отброшены обратно в город, а сам Гиппократ погиб.[191]
Блокада города стала настолько плотной, что Алквиад с частью войска отправился собирать деньги и силы для последующей осады Византия. В его отсутствие Ферамен и Фрасибул договорились с Фарнабазом о капитуляции Халкедона. Было решено, что город снова станет данником Афин, выплачивая прежний размер дани, а также возместит задолженность за прошедший период. Кроме того, сам Фарнабаз обязался заплатить афинянам двадцать талантов от имени города, а также сопроводить афинских послов в Сузы, чтобы те представили предложения о примирении Великому царю. До возвращения этих послов афиняне обязались не вести военных действий против сатрапии Фарнабаза.[192] Клятвы в подтверждение этого были взаимно принесены после возвращения Алквиада из похода. Фарнабаз категорически отказался завершить ратификацию с другими стратегами, пока лично не поклянётся и Алквиад – доказательство как его огромного личного влияния, так и известной склонности находить предлоги для уклонения от соглашений. Соответственно, Фарнабаз отправил двух послов в Хрисополь, чтобы принять клятву Алквиада, а два родственника Алквиада прибыли в Халкедон как свидетели клятвы сатрапа. Помимо общей клятвы с коллегами, Алквиад заключил с Фарнабазом личный договор о дружбе и гостеприимстве.
Алквиад провёл время в отсутствии, захватив Селимбрию, где добыл денег, и собрав большой отряд фракийцев, с которыми двинулся по суше к Византию. Этот город был осаждён сразу после капитуляции Халкедона объединёнными афинскими силами. Вокруг него возвели стену и неоднократно атаковали метательными снарядами и таранами. Однако лакедемонский гарнизон под командованием гармоста Клеарха, усиленный мегарцами Геликса и беотийцами Кератада, успешно отражал эти атаки. Но с голодом справиться было сложнее. После продолжительной блокады запасы продовольствия начали иссякать; Клеарх, и без того суровый, стал совершенно беспощадным, заботясь лишь о пропитании своих солдат, и даже запер оставшиеся припасы, пока горожане умирали от голода. Понимая, что единственная надежда – на внешнюю помощь, он покинул город, чтобы просить поддержки у Фарнабаза и, если возможно, собрать флот для отвлекающей операции. Оборону он оставил Кератаду и Геликсу, будучи уверен, что византийцы слишком скомпрометированы своим отпадением от Афин, чтобы переметнуться, несмотря на страдания. Однако благоприятные условия, недавно предложенные Халкедону, наряду с усиливающимся голодом, побудили Килона и византийскую партию ночью открыть ворота и впустить Алквиада с афинянами на просторную центральную площадь – Фракион. Геликс и Кератад, узнавшие о нападении лишь когда враги уже окружили город, тщетно пытались сопротивляться и были вынуждены сдаться на милость победителя. Их отправили пленниками в Афины, где Кератад сумел бежать во время суматохи высадки в Пирее. Городу были предложены мягкие условия: он вернулся в положение зависимого союзника Афин и, вероятно, должен был выплатить задолженность по дани, как и Халкедон.[193]
Осады в древности были столь медленными, что взятие Халкедона и Византия заняло почти весь год; последний сдался примерно в начале зимы. [194] Оба города имели для Афин огромное значение, вновь сделав их полновластными хозяйками Боспора и обеспечив двух ценных союзников-данников. Но это было не единственное улучшение их положения за лето. Достигнутая договорённость с Фарнабазом также представляла большую ценность и сулила ещё большее. Было очевидно, что сатрап устал нести основную тяжесть войны ради выгоды пелопоннесцев и готов помочь афинянам в переговорах с Великим царём. Даже простое прекращение его активной поддержки Спарты, не говоря уже о других последствиях, было крайне важно для Афин – и это было достигнуто. После осады Халкедона послам – пяти афинянам и двум аргосцам (все, вероятно, присланным из Афин, что объясняет задержку) – было приказано встретиться с Фарнабазом в Кизике. Некоторые лакедемонские послы и даже сиракузянин Гермократ, осуждённый и изгнанный на родине, воспользовались тем же сопровождением, и все отправились в Сузы. Их путь был прерван суровой зимой в Гордии во Фригии, и именно там, двигаясь весной вглубь страны, они встретили молодого принца Кира, сына царя Дария, лично направлявшегося управлять важной частью Малой Азии. С ним же спускались лакедемонские послы Бойотий и другие, завершившие свою миссию при персидском дворе. [195]
Глава LXIV.
ОТ ПРИБЫТИЯ КИРА МЛАДШЕГО В МАЛУЮ АЗИЮ ДО БИТВЫ ПРИ АРГИНУСАХ.
Появление Кира, известного как Кир Младший, в Малой Азии стало событием величайшей важности, открывшим последнюю фазу Пелопоннесской войны.
Он был младшим из двух сыновей персидского царя Дария II Нотуса и жестокой царицы Парисатиды. Теперь отец отправил его сатрапом Лидии, Великой Фригии и Каппадокии, а также командующим всей военной округой, сборным пунктом которой был Кастол. На тот момент [стр. 136] его власть не распространялась на греческие города побережья, которые оставались под управлением Тиссаферна и Фарнабаза.[196] Однако он привез с собой глубокий интерес к греческой войне и сильные антиафинские настроения, имея полномочия от отца действовать в этом направлении.
Этот молодой человек обладал железной волей; его физическая активность, превосходившая соблазны чувственных удовольствий, которые часто расслабляли персидскую знать, вызывала восхищение даже у спартанцев.[197] Его энергичный характер сочетался с немалыми способностями. Хотя он еще не задумывал тот продуманный план захвата персидского трона, который позже поглотит все его мысли и едва не увенчается успехом благодаря помощи десяти тысяч греков, но, похоже, с самого начала он мыслил себя будущим царем, а не сатрапом.
Он прибыл, прекрасно осознавая, что Афины были главным врагом, унизившим гордость персидских царей, оттеснившим островных греков от моря и фактически освободившим прибрежных греков в течение последних шестидесяти лет. Поэтому он привез с собой твердое желание сокрушить афинскую мощь, что резко отличалось от коварных игр Тиссаферна и было гораздо опаснее даже откровенной враждебности Фарнабаза, у которого было меньше денег, меньше влияния при дворе и меньше юношеского пыла.
Более того, Фарнабаз, после трех лет искренней поддержки пелопоннесцев, теперь устал от союзников, которых так долго содержал. Вместо того чтобы легко изгнать афинское влияние со своих берегов, как он ожидал, он обнаружил свою сатрапию разоренной, доходы сокращенными или поглощенными, а афинский флот, господствующий в Пропонтиде и Геллеспонте. Между тем спартанский флот, на приглашение которого он потратил столько усилий, был уничтожен. Разочаровавшись в пелопоннесском деле, он даже начал склоняться к Афинам, и послы, которых он сопровождал в Сузы, возможно, заложили бы основы новой персидской политики в Малой Азии, если бы прибытие Кира [стр. 137] на побережье не разрушило все эти расчеты.
Молодой принц привез с собой свежую, горячую, юношескую ненависть к Афинам, власть, уступавшую лишь власти самого Великого Царя, и решимость использовать ее без остатка для обеспечения победы пелопоннесцам.
С момента встречи Фарнабаза и афинских послов с Киром их дальнейшее продвижение к Сузам стало невозможным. Беотий и другие спартанские послы, сопровождавшие молодого принца, хвастались, что добились всего, чего просили в Сузах, а сам Кир объявил, что его полномочия неограниченны и распространяются на все побережье, чтобы вести активную войну совместно со спартанцами. Услышав это и увидев печать Великого Царя на словах: «Я посылаю Кира как владыку всех, кто собирается в Кастоле», Фарнабаз не только отказался пропустить афинских послов дальше, но и был вынужден подчиниться приказу молодого принца, который требовал либо выдать их ему, либо хотя бы задержать на некоторое время во внутренних районах, чтобы информация не дошла до Афин. Сатрап воспротивился первому требованию, дав слово за их безопасность, но выполнил второе, продержав их в Каппадокии целых три года, пока Афины не оказались на грани капитуляции, после чего получил разрешение от Кира отправить их обратно к побережью.[198]











