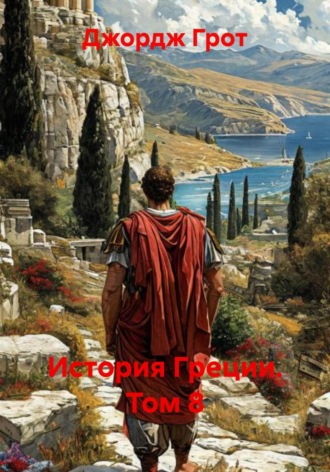
Полная версия
История Греции. Том 8
Прибытие Кира, перечеркнувшее коварство Тиссаферна и усталость Фарнабаза и обеспечившее врагов Афин двойным потоком персидского золота в момент, когда тот поток мог иссякнуть, стало решающим фактором в совокупности причин, определивших исход войны.[199] Но как бы важно ни было это событие само по себе, его значение еще больше возросло благодаря характеру спартанского адмирала Лисандра, с которым молодой принц впервые встретился по прибытии в Сарды.
Лисандр прибыл, чтобы сменить Кратесиппида, около декабря 408 г. до н.э. или января 407 г. до н.э.[200] Он стал последним после Брасида и Гилиппа в тройке выдающихся спартанцев, нанесших Афинам самые тяжелые удары в ходе этой долгой войны. Он родился в бедной семье и, как говорят, даже принадлежал к классу мофаков, будучи в состоянии поддерживать свой вклад в общественные трапезы и место в постоянных тренировках только благодаря помощи богатых людей. Он был не только превосходным командиром,[201] полностью компетентным в военных делах, но также обладал большим талантом к интригам, организации политических партий и поддержанию их дисциплины. Хотя он был равнодушен к соблазнам денег и удовольствий,[202] и добровольно смирялся с бедностью, в которой родился, он был совершенно беспринципен в достижении амбициозных целей, будь то интересы страны или его собственные.
Его семья, несмотря на бедность, пользовалась уважением в Спарте, принадлежа к роду Гераклидов, не связанному близким родством с царями. Более того, его личная репутация как спартанца была безупречной, поскольку он строго и образцово соблюдал дисциплинарные правила. Привычка к самоограничению, которую он таким образом приобрел, хорошо послужила ему, когда для достижения честолюбивых целей потребовалось завоевать расположение сильных мира сего.
Его безразличие ко лжи и клятвопреступлениям иллюстрируется различными приписываемыми ему изречениями, такими как: «Детей можно обмануть с помощью игральных костей, а мужчин – с помощью клятв».[203] Эгоистичное честолюбие – стремление увеличить могущество своей страны не просто в связи с собственным, но и в подчинении ему – направляло его от начала до конца карьеры. В этом главном качестве он был схож с Алкивиадом; в безрассудной аморальности средств он даже превзошел его. Кажется, он был жестоким, что не входило в обычный характер Алкивиада. С другой стороны, любовь к личным удовольствиям, роскоши и показухе, которая так много значила для Алкивиада, была совершенно чужда Лисандру.
Основой его натуры была спартанская сущность, стремящаяся подчинить аппетиты, тщеславие и широту ума одной лишь любви к власти и влиянию, а не афинская, склонная к развитию множества разнообразных импульсов, среди которых честолюбие было лишь одним из многих.
Кратесиппид, предшественник Лисандра, по-видимому, занимал морскую должность дольше обычного годичного срока, сменив Пасиппида в середине его года. Но морская мощь Спарты в то время была настолько слаба, еще не оправившись от сокрушительного поражения при Кизике, что он не достиг почти ничего. Мы слышим о нем только как о человеке, способствовавшем, ради собственной выгоды, политическому перевороту на Хиосе. Подкупленный группой хиосских изгнанников, он захватил акрополь, вернул их на остров и помог им свергнуть и изгнать правящую партию численностью шестьсот человек. Очевидно, что это был конфликт не между демократией и олигархией, а между двумя олигархическими группировками, одна из которых сумела подкупить спартанского адмирала для своих целей.
Изгнанники, которых он изгнал, заняли Атарней, укрепленный пункт хиосцев на материке напротив Лесбоса. Оттуда они, как могли, вели войну против своих противников, теперь правящих на острове, а также против других частей Ионии, добившись некоторого успеха и выгоды, как будет видно из их положения примерно десять лет спустя.[204]
Практика реорганизации правительств азиатских городов, начатая Кратесиппидом, была расширена и систематизирована Лисандром – не ради личной выгоды, которую он всегда презирал, а из честолюбивых соображений. Покинув Пелопоннес с эскадрой, он усилил ее на Родосе, а затем отплыл к Косу (афинскому острову, так что он мог лишь ненадолго остановиться там) и Милету. Он окончательно разместился в Эфесе, ближайшем пункте к Сардам, куда должен был прибыть Кир, и, ожидая его появления, увеличил свой флот до семидесяти триер.
Как только Кир прибыл в Сарды около апреля или мая 407 г. до н.э., Лисандр отправился нанести ему визит вместе со спартанскими послами и был встречен с величайшим расположением. Горько жалуясь на двуличность Тиссаферна – которого они обвиняли в том, что он саботировал приказы царя и пожертвовал интересами империи, поддавшись влиянию Алкивиада, – они умоляли Кира принять новую политику и, выполняя условия договора, оказать самую активную помощь в подавлении общего врага.
Кир ответил, что это были прямые приказы, полученные им от отца, и что он готов выполнить их со всей решимостью. Он привез с собой, сказал он, пятьсот талантов, которые будут немедленно направлены на это дело; если их окажется недостаточно, он обратится к личным средствам, данным ему отцом; а если потребуется еще больше, он переплавит на деньги золотой и серебряный трон, на котором сидит.[205]
Лисандр и послы горячо поблагодарили за эти великолепные обещания, которые вряд ли могли оказаться пустыми словами из уст такого пылкого юноши, как Кир. Их надежды, возбужденные его характером и заявленными намерениями, были настолько велики, что они осмелились попросить его восстановить ставку жалованья в одну полную аттическую драхму на человека для моряков – ставку, которую Тиссаферн обещал через своих послов в Спарте, когда впервые пригласил спартанцев за Эгейское море, и когда было сомнительно, придут ли они, но фактически выплачивал только в течение первого месяца, а затем сократил до половины драхмы, выдавая ее с жалкой нерегулярностью.
В качестве мотива для увеличения жалованья Киру заверили, что это вызовет массовое дезертирство афинских моряков, что ускорит окончание войны и, следовательно, сократит расходы. Но он отказался, заявив, что ставка жалованья была установлена как прямым приказом царя, так и условиями договора, и поэтому он не может ее изменить.[206] Лисандру пришлось с этим согласиться.
Послов приняли с почетом и устроили в их честь пир; после чего Кир, выпив за здоровье Лисандра, попросил его назвать, какую милость он мог бы оказать ему в наибольшей степени. «Увеличить жалованье морякам на один обол на человека», – ответил Лисандр. Кир немедленно согласился, поскольку сам поставил вопрос таким образом, что был лично обязан. Но ответ поразил его и вызвал восхищение, поскольку он ожидал, что Лисандр попросит какую-нибудь милость или подарок для себя, судя по аналогии с большинством персов, а также Астиохом и офицерами пелопоннесского войска в Милете, чья коррумпированная угодливость Тиссаферну, вероятно, была ему известна.
На фоне такой коррупции, а также презрительного безразличия Ферамена к условиям моряков,[207] поведение Лисандра выделялось резким и благородным контрастом.
Описанный эпизод не только обеспечил морякам пелопоннесского флота ежедневное жалованье в четыре обола вместо трех, но и завоевал для самого Лисандра такую степень уважения и доверия со стороны Кира, которую он хорошо умел обратить в свою пользу.
Я уже отмечал,[208] ссылаясь на Перикла и Никия, что установившаяся репутация личной неподкупности, редкая среди греческих ведущих политиков, была одним из самых ценных активов в капитале честолюбивого человека, даже если рассматривать ее только с точки зрения прочности его собственного влияния. Если доказательства такой бескорыстности имели большую ценность в глазах афинского народа, то еще сильнее они подействовали на Кира.
С его персидскими и княжескими представлениями о привлечении сторонников щедростью,[209] человек, презирающий подарки, был явлением, вызывавшим более высокое чувство удивления и уважения. С этого момента он не только доверял Лисандру в финансовых вопросах безоговорочно, но и советовался с ним относительно ведения войны, а даже снизошел до потакания его личным амбициям в ущерб этой цели.[210]
Вернувшись из Сард в Эфес после такого беспрецедентного успеха в переговорах с Киром, Лисандр смог не только полностью выплатить задолженность по жалованью флоту, но и авансировать его на месяц по увеличенной ставке в четыре обола на человека, пообещав и впредь такую же высокую ставку. В войске царили величайшее удовлетворение и уверенность.
Но корабли были в плохом состоянии, будучи поспешно и скупо собранными после недавнего поражения при Кизике. Поэтому Лисандр использовал свое нынешнее благополучие, чтобы привести их в лучший порядок, закупить более полное снаряжение и нанять отборные экипажи.[211]
Он предпринял еще один шаг, чреватый важными последствиями. Созвав в Эфес нескольких самых влиятельных и активных людей из каждого азиатского города, он организовал их в дисциплинированные клубы или фракции, связанные с ним самим. Он подстрекал эти клубы к активной войне против Афин, обещая, что, как только война закончится, они будут поставлены и поддержаны спартанским влиянием у власти в своих городах.[212]
Его недавно установленное влияние на Кира и обильные поставки, которыми он теперь распоряжался, удвоили силу этого предложения, и без того слишком соблазнительного. Таким образом, вдохновляя эти города на более активные совместные военные усилия, он одновременно создал для себя повсеместную сеть связей, которой ни один преемник не мог бы управлять, что делало продолжение его собственного командования почти необходимым для успеха. Плоды его интриг проявятся в последующих декадархиях, или олигархиях Десяти, после полного подчинения Афин.
Пока Лисандр и Кир восстанавливали боеспособность своей стороны летом 407 г. до н.э., победоносный изгнанник Алкивиад совершил важный и деликатный шаг, впервые вернувшись в родной город.
Согласно соглашению с Фарнабазом, заключенному после взятия Халкедона, афинскому флоту было запрещено нападать на его сатрапию, и поэтому пришлось искать пропитание в других местах. Византий и Селимбрия, а также подати, собранные во Фракии, содержали их зимой; весной (407 г. до н.э.) Алкивиад снова привел их на Самос, откуда предпринял экспедицию против побережья Карии, собрав сто талантов.
Фрасибул с тридцатью триерами отправился напасть на Фракию, где захватил Фасос, Абдеры и все те города, которые отпали от Афин; Фасос в то время особенно страдал от голода и прошлых междоусобиц. Ценной добычей для содержания флота, несомненно, стали плоды этого успеха.
Фрасилл в то же время повел другую часть армии домой в Афины, предназначенную Алкивиадом в качестве предвестника его собственного возвращения.[213]
Прежде чем Фрасилл прибыл, народ уже проявил свое благосклонное отношение к Алкивиаду, вновь избрав его стратегом наряду с Фрасибулом и Кононом.
Теперь Алкивиад направлялся домой с Самоса с двадцатью триерами, везя все недавно собранные средства; сначала он остановился на Паросе, затем посетил побережье Лаконии и, наконец, заглянул в гавань Гитея в Лаконии, где, как он узнал, готовились тридцать триер.
Известия о его переизбрании стратегом, подкрепленные настоятельными приглашениями и ободрениями друзей, а также отзывом его изгнанных родственников, наконец убедили его отплыть в Афины.
Он прибыл в Пирей в знаменательный день, праздник Плинтерий, 25-го числа месяца таргелиона, около конца мая 407 г. до н.э. Это был день мрачной торжественности, считавшийся неблагоприятным для каких-либо важных действий. Статую богини Афины лишали всех украшений, скрывали от взоров [стр. 145] и омывали или очищали в ходе таинственного обряда, проводимого священным родом Праксиергидов.
Богиня, казалось, отворачивала лицо и отказывалась смотреть на возвращающегося изгнанника. По крайней мере, так толковали его враги; и поскольку последующий ход событий, казалось, подтверждал их правоту, это толкование сохранилось, тогда как более благоприятное объяснение, несомненно предложенное его друзьями, было забыто.
Самые экстравагантные описания помпы и великолепия этого возвращения Алкивиада в Афины дали некоторые античные авторы, особенно Дурис с Самоса, писатель, живший примерно двумя поколениями позже.
Говорили, что он привез с собой двести носовых украшений с захваченных вражеских кораблей или, по некоторым данным, даже двести самих захваченных кораблей; что его триера была украшена позолоченными и посеребренными щитами и плыла под пурпурными парусами; что Каллипид, один из самых выдающихся актеров того времени, выполнял функции келевста, подавая ритм гребцам; что Хрисогон, флейтист, завоевавший первый приз на Пифийских играх, также был на борту, играя мелодию возвращения.[214]
Все эти детали, придуманные с печальной легкостью, чтобы проиллюстрировать идеал показухи и наглости, опровергаются более простым и правдоподобным рассказом Ксенофонта. Возвращение Алкивиада было не только скромным, но даже подозрительным и опасливым.
С ним было всего двадцать триер; и хотя его ободряли не только заверения друзей, но и известия о том, что он только что переизбран стратегом, он все же боялся сойти на берег даже в тот момент, когда его корабль причалил к пирсу в Пирее.
Огромная толпа собралась там из города и порта, движимая любопытством, интересом и другими эмоциями, чтобы увидеть его прибытие. Но он так мало доверял их настроениям, что сначала колебался сойти на берег и стоял на палубе, высматривая друзей и родственников.
Вскоре он увидел своего кузена Евриптолема и других, которые сердечно приветствовали его, и в их окружении сошел на берег. Но они тоже так опасались его многочисленных врагов, что образовали нечто вроде телохранителей, чтобы окружить и защитить его от возможного нападения во время марша из Пирея в Афины.[215]
Однако защита не понадобилась. Не только его враги не предприняли никакого насилия против него, но они даже не возражали, когда он выступал с защитой перед советом и народным собранием.
Он заявлял перед тем и другим о своей невиновности в нечестии, в котором его обвиняли, горько осуждал несправедливость врагов и мягко, но трогательно сокрушался о недоброжелательности народа. Его друзья все горячо говорили в том же духе.
Настроение в его пользу как в совете, так и в народном собрании было настолько сильным и единодушным, что никто не осмелился выступить против.[216] Приговор, вынесенный против него, был отменен; Эвмолпидам было приказано снять проклятие, которое они наложили на его голову; запись приговора была уничтожена, а свинцовая пластина, на которой было выгравировано проклятие, брошена в море; его конфискованное имущество было возвращено; наконец, он был провозглашен стратегом с полномочиями и получил разрешение подготовить экспедицию из ста триер, тысячи пятисот гоплитов из регулярного списка и ста пятидесяти всадников.
Все это прошло при единогласном голосовании, среди молчания врагов и ликования друзей, среди безмерных обещаний будущих достижений от него самого и уверенных заверений его друзей, убеждавших слушателей, что Алкивиад – единственный человек, способный восстановить империю и величие Афин.
Всеобщие ожидания, которые он и его друзья всячески старались разжечь, заключались в том, что его победоносная карьера за последние три года была подготовкой к еще большим триумфам в будущем.
Мы можем быть уверены, учитывая опасения Алкивиада при входе в Пирей и телохранителей, организованных его друзьями, что этот ошеломляющий и беспрепятственный триумф намного превзошел ожидания и того, и другого.
Он опьянил его и заставил пренебречь врагами, которых еще недавно так боялся. Эта ошибка, наряду с беспечностью и высокомерием, проистекающими из, казалось бы, безграничного превосходства, стала причиной его будущего падения.
Но правда в том, что эти враги, как бы они ни молчали, не перестали быть опасными. Алкивиад находился в изгнании восемь лет, примерно с августа 415 г. до н.э. по май 407 г. до н.э.
Отсутствие во многих отношениях было благом для его репутации, поскольку его высокомерное личное поведение оставалось незамеченным, а его нечестие частично забылось. Было даже настроение среди большинства принять его прямое отрицание фактов, в которых его обвиняли, и сосредоточиться главным образом на недостойных маневрах его врагов, сопротивлявшихся его требованию немедленного суда сразу после выдвижения обвинения, чтобы они могли клеветать на него в его отсутствие.
Его характеризовали как патриота, движимого благороднейшими мотивами, который принес государству как первоклассные способности, так и большое личное состояние, но был погублен заговором коррумпированных и никчемных ораторов, во всех отношениях уступавших ему; людей, чей единственный шанс на успех у народа заключался в изгнании тех, кто был лучше них, тогда как он, Алкивиад, далек от того, чтобы иметь какие-либо интересы, враждебные демократии, был естественным и достойным любимцем демократического народа.[217]
Таким образом, что касается старых причин непопулярности, время и отсутствие значительно ослабили их эффект и помогли его друзьям нейтрализовать их, указывая на коварные политические маневры, использованные против него.
Но если старые причины непопулярности, таким образом, сравнительно говоря, исчезли из виду, то с тех пор возникли другие, более серьезного и неизгладимого характера. Его мстительная враждебность к своей стране не только была демонстративно провозглашена, но и активно проявлена ударами, слишком эффективно направленными в её жизненно важные органы. Отправка Гилиппа в Сиракузы, укрепление Декелеи, восстания Хиоса и Милета, первое зарождение заговора Четырехсот – все это были явные меры[p. 148] Алкивиада. Даже для этого моментальный энтузиазм пытался найти оправдания: утверждалось, что он никогда не переставал любить свою страну, несмотря на её несправедливость к нему, и что он был вынужден необходимостью изгнания служить людям, которых ненавидел, ежедневно рискуя своей жизнью.[218] Но такие предлоги не могли никого обмануть. Предательство Алкивиада в период его изгнания оставалось неоправданным, как и неоспоримым, и было бы более чем достаточным поводом для его врагов, если бы их языки были свободны. Но его положение было совершенно особенным: сначала он нанес своей стране огромный вред, а затем оказал ей ценные услуги и обещал сделать ещё больше. Правда, последующая услуга никоим образом не соответствовала предыдущему вреду: и она действительно была оказана не только им, поскольку победы при Абидосе и Кизике принадлежат не меньше Ферамену и Фрасибулу, чем Алкивиаду:[219] более того, особый подарок или капитал, который он обещал привезти с собой – персидский союз и плату Афинам – оказался полным обманом. Тем не менее, афинское оружие было исключительно успешным с момента его присоединения, и мы можем видеть, что не только общие слухи, но даже хорошие судьи, такие как Фукидид, приписывали этот результат его превосходной энергии и управлению.
Не касаясь этих подробностей, невозможно полностью понять очень своеобразное положение этого возвращающегося изгнанника перед афинским народом летом 407 года до н.э. Более далекое прошлое показывало его одним из худших преступников; недавнее прошлое – ценным слугой и патриотом: будущее обещало продолжение в этом последнем качестве, насколько можно было судить по каким-либо положительным признакам. Теперь это был случай, когда обсуждение и взаимные обвинения не могли принести никакой пользы. Были все основания для повторного назначения Алкивиада на его командование; но это могло быть сделано только при[p. 149] запрете осуждения за его прошлые преступления и предварительном принятии его последующих добрых дел, как оправдывающих надежду на ещё лучшие дела в будущем. Народный инстинкт прекрасно чувствовал эту ситуацию и наложил абсолютное молчание на его врагов.[220] Мы не должны делать вывод отсюда, что народ забыл прошлые деяния Алкивиада или что он питал к нему только безоговорочное доверие и восхищение. В своем нынешнем, вполне оправданном чувстве надежды, они решили, что он должен иметь полную свободу действий для продолжения своей новой и лучшей карьеры, если он того пожелает; и что его враги должны быть лишены возможности возобновлять упоминания о непоправимом прошлом, чтобы закрыть перед ним дверь. Но то, что было запрещено произносить как несвоевременное, не было стерто из их воспоминаний; и враги, хотя и были временно заставлены молчать, не стали бессильными на будущее. Весь этот горючий материал лежал в покое, готовый вспыхнуть от любого будущего проступка или небрежности, возможно, даже от неудачи без вины, со стороны Алкивиада.
В момент, когда так много зависело от его будущего поведения, он показал, как мы скоро увидим, что полностью неправильно истолковал настроение народа. Одурманенный неожиданным триумфом своего приема, согласно той роковой восприимчивости, столь общей среди выдающихся греков, он забыл свою собственную прошлую историю и вообразил, что народ также забыл и простил её; истолковывая их продуманное и хорошо обоснованное молчание как доказательство забвения. Он считал себя уверенным в обладании общественным доверием и смотрел на своих многочисленных врагов, как если бы они больше не существовали, потому что им не позволили говорить в самый неподходящий час. Без сомнения, его ликование разделяли его друзья, и это чувство ложной безопасности стало причиной его будущей гибели.
Два коллеги, рекомендованные самим Алкивиадом, Адеймант и Аристократ, были назначены народом в качестве генералов гоплитов, чтобы отправиться с ним, в случае операций на берегу.[221][p. 150] Менее чем через три месяца его армия была готова; но он намеренно отложил свой отъезд до того дня месяца Боедромиона, около начала сентября, когда праздновались Элевсинские мистерии, и когда торжественное процессионное шествие толпы посвященных обычно проходило по Священному пути из Афин в Элевсин. В течение семи последовательных лет, с тех пор как Агис укрепился в Декелее, этот марш был по необходимости прекращен, и процессия перевозилась морем, с опущением многих церемониальных деталей. Алкивиад в этом случае возобновил шествие по суше, в полной помпе и торжественности; собрав все свои войска в оружии для защиты, на случай если будет совершено нападение из Декелеи. Никакого такого нападения не произошло; так что он имел удовольствие возобновить полную регулярность этой знаменитой сцены и сопровождать многочисленных посвященных туда и обратно, без малейшего перерыва; подвиг, приятный религиозным чувствам народа и внушающий приятное ощущение неослабевающей афинской власти; в то время как в отношении его собственной репутации это было особенно политично, так как служило примирению с Евмолпидами и Двумя Богинями, из-за которых он был осужден.[222]
Сразу после мистерий он отправился со своей армией. Кажется, что Агис в Декелее, хотя и не решился выйти и атаковать Алкивиада, когда тот стоял на страже Элевсинской процессии, тем не менее чувствовал себя униженным брошенным ему вызовом. Вскоре после этого, воспользовавшись уходом этих больших сил, он вызвал подкрепления из Пелопоннеса и Беотии и попытался неожиданно напасть на стены Афин темной ночью. Если он ожидал какого-либо содействия изнутри, заговор провалился: тревога была поднята вовремя, и старшие и младшие гоплиты были на своих постах, чтобы защитить стены. Нападавшие – говорили, что их было[p. 151] двадцать восемь тысяч человек, из которых половина были гоплиты, с тысячей двумястами всадников, девятьсот из них беотийцы – были замечены на следующий день близ стен города, которые были полностью укомплектованы всей оставшейся силой Афин. В последовавшем упорном кавалерийском сражении афиняне получили преимущество даже над беотийцами. Агис разбил лагерь следующей ночью в саду Академа; снова на следующий день он выстроил свои войска и предложил битву афинянам, которые, как утверждается, вышли в боевом порядке, но оставались под защитой снарядов со стен, так что Агис не осмелился атаковать их.[223] Мы можем сомневаться, выходили ли афиняне вообще, так как они в течение многих лет привыкли считать себя уступающими пелопоннесцам в поле. Агис теперь отступил, по-видимому, удовлетворенный тем, что предложил битву, чтобы стереть оскорбление, которое он получил от шествия элевсинских посвященных вопреки его соседству.
Первым подвигом Алкивиада было отправиться на Андрос, теперь находящийся под властью лакедемонского гармоста и гарнизона. Высадившись на острове, он разграбил поля, разгромил как местные войска, так и лакедемонян, и заставил их запереться в городе; который он осаждал несколько дней без успеха, а затем отправился дальше на Самос, оставив Конона в укрепленном посту с двадцатью кораблями для продолжения осады.[224] На Самосе он сначала узнал о состоянии пелопоннесского флота в Эфесе, влиянии, приобретенном Лисандром над Киром, сильных антиафинских настроениях молодого принца, и щедрой ставке оплаты, выплачиваемой даже авансом, которую пелопоннесские моряки теперь фактически получали. Теперь он впервые убедился в провале тех надежд, которые он, не без оснований, питал в предыдущем году – и о которых он, несомненно, хвастался в Афинах – что персидский союз может быть нейтрализован, если не перейден на их сторону, через послов, сопровождаемых Фарнабазом в Сузы. Было бесполезно, что он уговорил Тиссаферна посредничать с Киром, представить ему некоторых афинских послов и внушить ему свои собственные взгляды на истинные интересы Персии; то есть, что война должна быть подпитываема и затянута, чтобы измотать обе греческие воюющие стороны, каждую с помощью другой. Такая политика, чуждая всегда пылкому характеру Кира, стала ещё более неприятна ему после его общения с Лисандром. Он не согласился даже увидеть послов, и, вероятно, не был недоволен, чтобы пренебречь соседом и соперником сатрапом. Глубокое уныние царило среди афинян на Самосе, когда они болезненно убедились, что все надежды на Персию должны быть оставлены для них самих; и более того, что персидская плата была и более щедрой, и лучше обеспеченной для их врагов, чем когда-либо прежде.[225]











