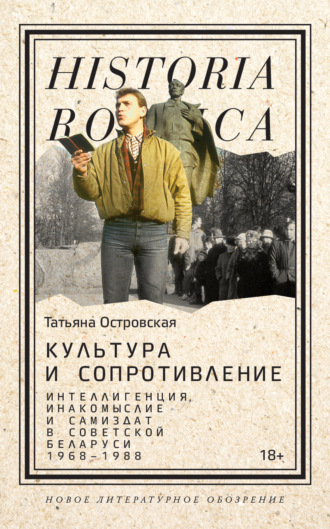
Полная версия
Культура и сопротивление. Интеллигенция, инакомыслие и самиздат в советской Беларуси (1968–1988)
интерпретировать систему циркуляции самиздата и тамиздата как нечто большее, нежели простой поток контрабандного материала с Востока на Запад или с Запада на Восток; это была сеть пересылки и распространения, перевода и обратного перевода, усиления и искажения, и наконец, коллекционирования и архивирования…[21]
Я также рассматриваю в книге идеологическую борьбу за лояльность интеллигенции, описанную, помимо прочих, Чеславом Милошем и Надеждой Мандельштам[22]. В конечном счете, история интеллигенции при советском режиме была по большей части историей конформизма. Коммунистическая партия принуждала интеллигенцию служить себе террором, но также склоняла к сотрудничеству перспективами признания и жизненных благ. Насилие, сопровождавшее установление советской власти в национальных республиках в конце 1920-х и 1930-х годах, повторилось, хотя и с несколько меньшей интенсивностью, на новоприсоединенных территориях (включая части Украины и Беларуси) в 1939–1940-м и в послевоенный период. Беларусские интеллектуалы, зачастую происходившие из неполноправных и бедных крестьянских семей, ценили образование и материальные блага, приобретенные ими при советском режиме. Как соотносились между собой нонконформизм и конформизм? Каким образом человек делал шаг наружу из круга конформности? Ведь из множества рассказов и воспоминаний хорошо известно, что нонконформизм редко передавался «по наследству», он требовал пройти долгий путь, полный разочарований и размышлений, падений и взлетов[23].
Беларусская диаспора на Западе, в отличие от украинской и тем более польской и чешской, не играла решающей роли в формировании инакомыслия внутри республики. Хотя статьи и эго-документы эмигрантов и показывают, что в диаспоре существовал устойчивый интерес к событиям в советской Беларуси, благодаря доступности советской периодики в западных библиотеках их знания о ситуации внутри республики были довольно обширными. Важнейшую роль здесь играли Институт изучения СССР (Institut zur Erforschung der UdSSR) в Мюнхене и исследовательский отдел Радио «Свободная Европа» / Радио «Свобода» (RFE/RL)[24], где в разные времена работали такие интеллектуалы-эмигранты, как Янка Запрудник (Янка Запруднік), Антон Адамович (Антон Адамовіч), Владимир Глыбинный (Уладзімір Глыбінны), Павел Урбан (Паўла Урбан) и Станислав Станкевич (Станіслаў Станкевіч)[25]. Но все же сравнительно малое число беларусских эмигрантов, политические разногласия внутри их сообщества и слабый интерес Запада к «беларусским вопросам», остававшийся на низком уровне вплоть до подъема политического движения внутри республики в 1988 году, в целом ограничили их возможность влиять на национальное сопротивление в БССР[26].
Было бы ошибкой переоценивать влияние и распространенность инакомыслия и нонконформистских дискурсов. Алексей Юрчак утверждает, что с начала перестройки многие интеллектуалы считали необходимым подчеркивать и даже культивировать мифы о собственном инакомыслии[27]. В новых условиях многие постфактум склонны были преувеличивать свой героизм, смелость и влиятельность своих прежних действий и заявлений[28]. Эта логика сохраняется во многих национальных пантеонах антисоветского сопротивления, в том числе в Беларуси. Кроме того, в связи с тем что сопротивление властям в Беларуси продолжается и сегодня, разновременные истории инакомыслия могут пересекаться или затмевать друг друга.
Особое внимание в книге я уделяю писательскому сообществу и нонконформизму внутри него, что обусловлено особым положением писателя в советском обществе. Благодаря специфической издательской и читательской культуре СССР писатель имел больше доступа к своей аудитории, чем кто-либо еще. Кроме того, в некоторые периоды писатели имели возможность договариваться о границах дозволенного в советской культуре. Также они выступали защитниками «безмолвных», слабо представленных групп населения[29]. С точки зрения беларусского советского писателя реально и метафорически непредставленными, лишенными права голоса были и советские колхозники, и простые (бывшие) участники войны, да и беларусский язык и культура в целом.
Вацлав Гавел определил диссидентов как людей, «склонных к интеллектуальным занятиям» или «пишущих»: это «люди, для которых письменное слово есть главный и зачастую единственный политический инструмент, которым они владеют»[30]. Так же и философская мысль на Западе зачастую ставила знак равенства между интеллектуалами и писателями[31].
Союзом писателей (Саюз пісьменнікаў) БССР, который был основан 1 июня 1934 года, руководили партийные функционеры. Он зависел от политики центральных властей, однако в послесталинский период стал обладать частичной автономией. Его роль была двойственной[32]. С одной стороны, Союз ограничивал свободу творческой интеллигенции. С другой – гарантировал писателям привилегированное положение в обществе, обладал некоторым моральным авторитетом и стимулировал творческую продуктивность. Еще в 1988 году писатель и критик Владимир Колесник (Уладзімір Калеснік, 1922–1994) указал на эту амбивалентность:
Мне нравится наша литературная среда, потому что всегда, насколько я помню, в ней была внутренняя свобода, иногда смелость, в худшем случае юмор, чтобы, даже допуская компромиссы, понимать, что это дело паскудное[33].
Союз был местом, где случались острые дискуссии, а его члены иногда проявляли определенную солидарность. Неслучайно негосударственный Союз беларусских писателей (Саюз беларускіх пісьменнікаў) независимой Беларуси считает себя преемником Союза писателей БССР[34].
Понятия и подход
Слово «самиздат», первоначально предложенное поэтом Николаем Глазковым и популярное в среде послевоенной советской интеллигенции, обозначает старый, но никогда полностью не исчезавший феномен[35]. В течение XIX века, до русской революции 1905 года (и даже после нее), беларусская интеллигенция, как и многие другие революционные группы и национальные ассоциации, часто публиковала, пересылала контрабандой и распространяла неподцензурную и запрещенную литературу.
Говоря о нонконформистах и производителях самиздата в советской Беларуси, я часто использую слова «интеллигенция» и «интеллектуалы» как синонимы[36]. Но там, где это возможно, я использую термины «интеллигенция» или «творческие работники», потому что они более адекватно отображают специфику изучаемого периода, подчеркивая влияние русского интеллектуального наследия XIX века на советскую культуру.
Русская культура – и особенно литература XIX века – имела значительное влияние на мировоззрение беларусской интеллигенции. Не менее важными были идеи беларусского национального движения (или «адраджэння» – возрождения) начала XX века, связи с другими национальными культурами, особенно польской и украинской, традиционная крестьянская мораль и опыт множества войн и оккупаций.
В конце 1980-х годов, когда ослабла цензура и распространились западные идеи, поменялась и саморепрезентация интеллигенции. Интеллигенты из национальных республик, увлеченные открытием западной интеллектуальной культуры, пытались дистанцироваться от доминирующей русской культуры и предпочитали называть себя «интеллектуалами»[37].
Сергей Ушакин исследовал трансформацию позднесоветской и постсоветской интеллигенции в свете предложенного Антонио Грамши деления интеллектуалов на «традиционных» и «органических»[38]. Ушакин утверждает, что советская интеллигенция совмещала оба этих типа[39]. Она сохраняла верность традиционным ценностям и в то же время была органичной частью современного ей общества, служа посредником между властью и народом:
Социалистическая интеллигенция, созданная социалистическим государством, – будь она активно поддерживавшей его силой либо подпольной оппозицией – причудливым образом сочетала в себе апелляции к традиционным ценностям и нормам со специфической органической сенситивностью, позволявшей наполнять исторические формы современным содержанием[40].
Но похоже, что решающее значение для нонконформистской интеллигенции в СССР играло не сочетание органицизма и традиции, а конфликт между ними. Поиск моральных авторитетов был стабильно присущ интеллигенции на всем протяжении XIX и XX веков независимо от политических обстоятельств. Именно эти вдохновляющие поиски моральных ориентиров отличают русскую литературу, что ярче всего проявляется в творчестве Льва Толстого и Федора Достоевского. Советская интеллигенция унаследовала традиции русской демократической мысли и русской культуры XIX века с ее стремлением к справедливости и правде. В то же время она представляла собой продукт социалистической системы, мобилизованный на поддержание ее стабильности. Отсюда – трудноразрешимое внутреннее противоречие, подталкивающее к разрыву с системой.
В 1975 году чешский философ Ян Паточка написал, что «жизнь в правде» должна служить основой как политики, так и повседневной жизни[41]. Под влиянием Паточки другой чешский интеллектуал и диссидент Вацлав Гавел настаивал, что «жизнь в правде» («život v pravdě») есть акт мирного сопротивления, всегда доступный слабым[42]. В Советском Союзе Александр Солженицын с его призывом «жить не по лжи» противопоставил правдивую жизнь аморальности коммунистического режима[43]. То же искание правды было основным принципом литературной деятельности для таких беларусских писателей, как Василь Быков и Алесь Адамович. Принципом, к которому они пришли через практику письма и во многом раньше Солженицына и Гавела. Быков, Адамович, а также и многие другие представители национальных литератур видели главной задачей литературы говорить правду, даже (и прежде всего) если эта литература выходит в госиздате.
Историк Олег Дернович применил понятие нонконформизма к контексту советской Беларуси, включив в него разнообразные способы выражения несогласия с господствующей системой. Дернович объясняет:
Нет нужды создавать миф о широком антитоталитарном движении в советской Беларуси 1953–1985 годов, но столь же неадекватными являются и заявления о социальной апатии беларусского общества и, соответственно, об отсутствии внутренних ментальных ресурсов для саморазвития[44].
В этом контексте термины «культурное инакомыслие» или «культурное сопротивление» (cultural dissent) и прилагательное «нонконформистский» представляются наиболее адекватными для понимания и описания разнообразных практик интеллектуального сопротивления в советской Беларуси, необязательно связанных с открытой политической борьбой. Эти примеры культурного сопротивления не всегда можно маркировать как случаи откровенного политического «инакомыслия», но они характерны для советского общества не менее, а может, и более, чем последние. Как утверждали литературные критики Александр Генис[45] и Петр Вайль, «культурное инакомыслие» предшествовало в СССР всем остальным формам инакомыслия и было самой действенной его формой[46].
Я обращаюсь к идеям тех интеллигентов, которые публично или подпольно представляли себя в своих сочинениях (или другой творческой деятельности) в качестве трансляторов культурного инакомыслия и как-либо противоречили официальной точке зрения. Они зачастую обладали влиянием в своей профессиональной области и стремились сообщить свои идеи широкой публике. Они расходились с официальной точкой зрения в своих антитоталитарных, демократических устремлениях, требовали свободы слова, печати, собраний и религии и призывали к свободному развитию национальных культур и языков. И делали это, согласно удачному обобщению Бенджамина Натанса, в той или иной степени пытаясь жить и писать как «свободные люди» в несвободной стране[47].
Термин «третье (или промежуточное) пространство», заимствованный из постколониальной теории Хоми Бхабхи, применим, на мой взгляд, и для беларусской интеллигенции внутри советской системы[48]. Интеллигенция маневрировала между инакомыслием и конформностью, между самодеятельными публикациями и государственными издательствами. Временами границы между разрешенным и запрещенным размывались. Две популярные характеристики беларусской нации XX века – «тутэйшыя» (местные) и «партизаны» – хорошо подходят и к среде беларусской интеллигенции[49]. Художник и писатель Артур Клинов (Артур Клінаў) охарактеризовал партизанскую тактику как единственную форму сопротивления, возможную в Беларуси в последние два столетия[50]. Подобным же образом суть беларусской культуры ухвачена в идее «неприсутствия» (непрысутнасці), предложенной Валентином Акудовичем (Валянцін Акудовіч)[51]. Интеллигенция, тесно связанная с актуальными вопросами местной жизни (такими, как упадок беларусской деревни или судьба беларусского языка), в большинстве случаев не была готова к открытому неповиновению и часто выбирала тактику компромисса, обходных путей, неприятия, а то подрыва навязанных сверху границ и правил поведения.
Идеи, появлявшиеся в самиздате, проходили извилистым путем влияний и перетолкований. Они отражали дух времени, следы которого сохраняются до наших дней. Своеобразные переговоры о рамках возможного происходили, хотя и в меньшей степени, также в официальной литературе: эзопов язык (аллегории), многомесячные споры с редакторами, рецензентами и цензорами, прикрытие идеологически корректными фразами – список таких приемов далеко не полон[52]. Во время перестройки и в начале периода независимости эти идеи трансформировались в мощные политические программы и интеллектуальные проекты.
В этой книге я доказываю, что многие официальные публикации были не менее подрывными для советской системы, чем некоторые самиздатовские. Один из лучших примеров в беларусской советской литературе – военные повести Василя Быкова, большинство из которых было опубликовано в госиздате. Тем не менее сочинения Быкова ни в коей мере не избежали цензурных изъятий и ожесточенной критики в советской прессе. Его повести не попадали в категорию запрещенных, но служили образцами нековенционального мышления, предлагавшего пересмотр официального дискурса о войне.
Следуя идее Дипеша Чакрабарти из его работы «Провинциализируя Европу», мы можем оценивать периферийные диссидентские идеи и практики не как «вторичные» и «отстающие», но как фундаментальную часть разнонаправленного движения сопротивления социалистической системе в Восточной и Центральной Европе. В этом случае развитие на периферии, несомненно, испытывало влияние центра, но во многом выстраивалось по своим законам и имело свою динамику[53].
Уолтер Миньоло и Мадина Тлостанова доказывают, что локальные истории и альтернативные варианты модерна обычно воспринимаются как «зависимые и суррогатные компоненты триумфального шествия глобальной истории модерна»[54]. Но изучение локальных, периферийных культур должно опираться на идею пограничного мышления, которое противостоит господствующим нарративам и открывает многовариантную, поливерсальную, а не универсальную реальность. Такое пограничное мышление позволяет переоформить «эту историю и внести свой вклад в многовариантный мир, где могут сосуществовать множество миров»[55].
В беларусской интеллектуальной традиции Беларусь как пограничную зону, где пересекаются, взаимодействуют и сталкиваются культурные влияния, первым описал Игнат Абдзиралович (псевдоним Игната Канчевского, 1896–1923). В своем эссе «Вечным путем» («Адвечным шляхам») Абдзиралович предложил мыслить беларусскую культуру как текучую и «льющуюся», но сохраняющую свою суть во времени, подобно вечному огню Гераклита Эфесского[56]. Беларусская культура, локализованная на границе между Западом и Востоком, католицизмом и православием, подверженная их политическим и религиозным влияниям, сохранила свои уникальные особенности[57]. С точки зрения Абдзираловича, локализация на пограничье грозит поглощением более крупными культурами, но в то же время дает шанс взрастить уникальную творческую энергию[58].
В 1999 году, развивая идею Абдзираловича, философ и постколониальный мыслитель Игорь Бобков (Ігар Бабкоў) объяснил, как можно заниматься исследованием такой культурной поливалентности, или, его словами, транскультурности:
если попробовать обозначить источник транскультурности беларусской традиции, то в разные исторические эпохи они будут разными. Но два фундаментальных момента остаются константными: существование в зоне цивилизационного разлома и колониальные – нео- и постколониальные практики[59].
Самиздат и нонконформистская литература как объекты исследования – ценный источник для изучения семантических границ между различными культурами производства и контроля знания[60]. Такие границы всегда подвижны, поскольку смысл текста «меняется в зависимости от условий его производства и распространения»[61]. «Самиздат» означает и неподцензурные тексты, и сам акт нелегального, запрещенного производства, размножения и распространения идей. Поэтому он позволяет плодотворно изучать пограничные, промежуточные дискурсы и практики, границы между которыми иногда трудно определить. Как пишет о советском «архипелаге Самиздата» Вольвганг Айхведе,
границы между мирами разрешенного, терпимого, не разрешенного и запрещенного были текучими. Они могли меняться от места к месту. От периода к периоду[62].
Историография
До этого времени большинство проектов по изучению культурного инакомыслия и самиздата специально не обращались к советской Беларуси, так же как редко изучали культурную оппозицию в Молдове, Румынии, Болгарии и других «послушных» республиках Восточного блока[63]. Большинство научных работ, антологий самиздата и справочников по диссидентам, в том числе «История инакомыслия в СССР» Людмилы Алексеевой, не включают БССР и оставляют ее «белым пятном» на карте инакомыслия и самиздата в Центральной и Восточной Европе[64]. А например, в двухтомном «Словаре диссидентов» Александра Даниэля и Ирены Беньковской упоминаются имена только четырех беларусских диссидентов: Олега Бембеля (р. 1939), Ларисы Гениюш, Зенона Позняка и художника Евгения Кулика (Яўген Кулік, 1937–2002)[65].
В годы холодной войны немногочисленные беларусские эмигрантские ученые и активисты ставили вопрос о сути культурного сопротивления в БССР. Еще в 1958 году литературный критик Антон Адамович при поддержке Института изучения СССР в Мюнхене исследовал элементы сопротивления советизации в беларусской литературе с 1917 по 1957 год[66]. Адамович, активный участник литературных дискуссий 1920-х и 1930-х годов, был обвинен в национал-демократизме (советско-беларусский неологизм: «нацдэмаўшчына») на процессе против Союза освобождения Беларуси (Саюз вызвалення Беларусі, 1930). Будучи непосредственным свидетелем этих событий, он имел возможность раскрыть неизвестные публике подробности, но его личная биография, как и политическая ориентация мюнхенского института в самый разгар холодной войны, сегодня заставляют сомневаться в объективности его работы. Тем не менее она заслуживает внимания как одна из первых попыток изучить отношения между интеллектуалами и властью в первые десятилетия существования БССР.
Адамович отмечал, что уже в 1920-х годах для оппозиции советской власти национализм в разных его формах стал главной идеологической опорой. Вовлекая национальную интеллигенцию в строительство социализма, молодое советское государство применяло стратегию кнута и пряника: новые захватывающие возможности в сфере образования и национального самоопределения сменялись репрессиями и террором. Интеллигенция реагировала по-разному: открытым противостоянием, «внутренней эмиграцией», попытками вовлечь представителей режима в диалог или дискуссию, конформностью, оппортунизмом. Адамович завершал свою работу в 1958 году, когда дискурсивный поворот от сталинизма был уже намечен в романе Ильи Эренбурга «Оттепель» (опубликованном в мае 1954 года) и речь Н. Хрущева уже прозвучала на XX съезде КПСС (25 февраля 1956 года)[67]. Однако в этом время он все еще не наблюдал признаков десталинизации в беларусской литературе.
Другой эмигрантский ученый, историк Янка Запрудник, был первым, кто поставил вопрос о нонконформизме в послесталинской БССР[68]. Будучи редактором Беларусской службы RFE/RL[69] в 1956–1991 годах, он имел широкий доступ к официальным советским публикациям. С самого начала своей работы он сосредоточил внимание на особенностях национальной политики в СССР. В 1979 году Запрудник предложил концепцию инакомыслящих («іншадумцы») как более адекватную применительно к людям, так или иначе сопротивлявшихся советскому режиму. Он предположил, что термин «диссидент» был в каком-то смысле выгоден властям: его созвучность слову «диверсант» позволяла имплицитно выводить несогласных за рамки закона и общества[70].
Как видно по публикации Янки Запрудника 1979 года, эмигрантское сообщество должно было реконструировать (а иногда изобретать) смысл событий, происходивших в советской Беларуси. В то время неформальные каналы передачи информации между советской Беларусью и Западом были все еще очень ограничены.
Запрудник вернулся к теме инакомыслия в БССР десять лет спустя, когда западные наблюдатели открыли для себя потенциал национальных движений в Советском Союзе, а неподцензурные беларусские публикации наконец стали достигать иностранного читателя[71]. Он следил и за официальными, и за самиздатовскими публикациями и сообщал о зарождении политического протестного движения[72]. В то же время он хорошо знал такие публикации беларусского тамиздата, как «Письмо русскому другу» (1979) и «Письма Горбачеву» («Лісты Гарбачову», 1986)[73].
Когда в 1985 году в Лондоне вышла самиздатовская книга Олега Бембеля «Родной язык и морально-эстетический прогресс» («Родная мова і маральна-эстэтычны прагрэс»), британский лингвист Майкл Кирквуд написал на нее рецензию. Он верно оценил сомнительную академическую ценность этой работы, но совершенно не рассмотрел ее большого символического значения[74]. Текст Бембеля был одним из редких образцов беларусского самиздата и затем тамиздата, широко читаемых и обсуждаемых интеллигенцией. Работа была написана и издана в то время, когда дискуссии на темы национальной идентичности и национализма в БССР, как будет показано в этой работе, все еще подвергались строгой цензуре и играли первостепенную роль для политической мобилизации. Она привлекала читателей смелостью постановки вопроса и неординарностью формы изложения.
С начала 1990-х, а затем в начале 2000-х годов беларусские исследователи тоже стремились собирать, описывать и систематизировать доступную информацию о диссидентских движениях в БССР. В 1991 году историк Юрий Лаврик (Юры Лаўрык) опубликовал первопроходческую работу о самиздате в Беларуси. Он разделил весь советский самиздат на всесоюзный (включая все русскоязычные неподцензурные публикации от «Архипелага ГУЛАГ» до «Камасутры»), национальный (сосредоточенный на национальных проблемах и борьбе против национальной партократии) и локальный[75]. Лаврик указал на давнюю традицию неподцензурной беларусской печати, которая началась, по его мнению, еще в XVI веке, с полемических сочинений православного священника и полемиста Афанасия Филиповича[76].
По мнению Лаврика, беларусский советский самиздат в своем развитии прошел через три фазы. В 1965–1971 годах распространялся всесоюзный самиздат. В 1971–1988-м появились первые национальные публикации, а после 1988 года неподцензурные публикации растеклись по всему обществу[77]. Примерно тогда же социолог Олег Манаев обнаружил рост аудитории западных радиопередач среди беларусской молодежи в возрасте от 16 до 30 лет[78].
Затем классификацию нонконформистских движений предложил археолог и бывший диссидент Михаил Чарнявский (Міхась Чарняўскі, 1938–2013). Он разделил инакомыслящую интеллигенцию на две основные группы: демократов и беларусских национал-патриотов[79]. Первые, по его мнению, были озабочены общими вопросами демократии и прав человека, вторые стремились сохранить и возродить национальную культуру и язык.
В 1996 году для сохранения памяти о недавнем коммунистическом прошлом был основан Архив новейшей истории (Архіў найноўшае гісторыі, Modern History Archive, MHA), ориентированный в основном на историю антисоветского сопротивления. Опираясь на собранные источники, историк Олег Дернович выпустил под своей редакцией двухтомный справочник о нонконформизме, демократической оппозиции и репрессиях в послесталинской советской Беларуси[80]. В то время как Чарнявский заключал, что главной эмансипирующей движущей силой интеллигенции была не демократия, а национальное сопротивление, Дернович объявлял демократическим каждый ненасильственный акт сопротивления советскому режиму. Дернович и его соавторы первыми исследовали разнообразные культурные и политические протестные движения, а также единичные случаи проявления несогласия. Но эта важная работа не смогла избежать недостатков, характерных для постсоветской национальной историографии 1990-х: она опиралась на предвзятые интерпретации советской государственной политики и героизировала любое проявление инакомыслия.
Составленная Леонидом Моряковым (Леанід Маракоў) трехтомная энциклопедия интеллигенции, репрессированной в 1794–1991 годы, – подробный свод информации об оппозиции и репрессиях, где, помимо прочего, предполагается преемственность между советским и более ранними периодами беларусской истории[81].




