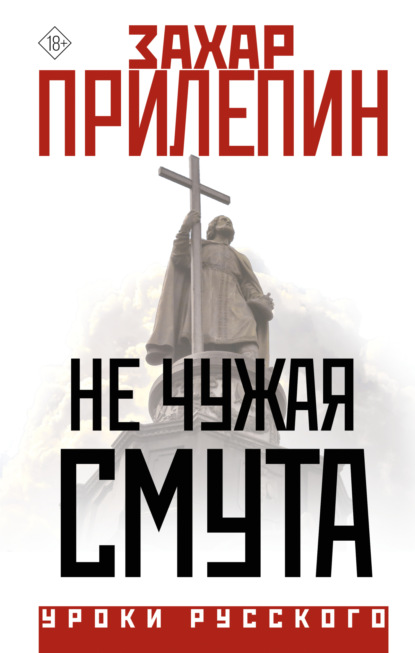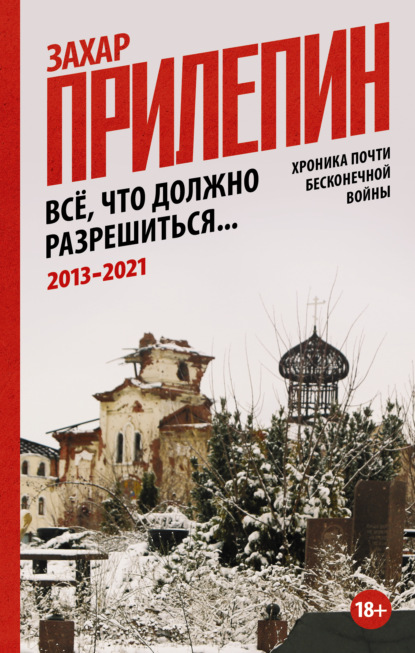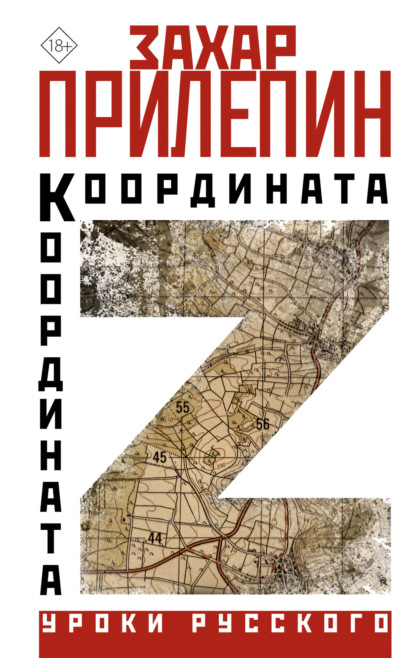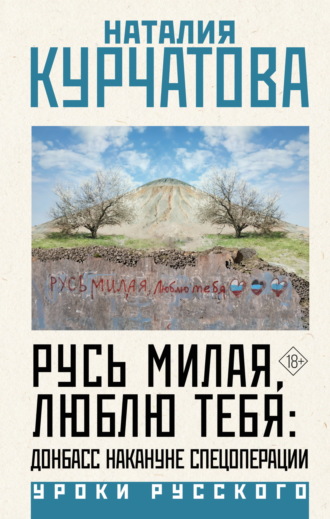
Полная версия
Русь милая, люблю тебя: Донбасс накануне спецоперации
Слушая Ходаковского, я подспудно ищу бреши в его рассуждениях – информационный контекст, неоднозначная репутация собеседника не могут не сказываться на восприятии. Тем не менее, проблемные зоны, на которые он указывает, действительно существуют не только в его воображении, но и в восприятии жителей региона. В один из вечеров на центральной улице Артема я заметила пожилого мужчину, который шел и бормотал что-то себе под нос. По профессиональной привычке я прислушалась; прохожий ругал местную власть. Поймав мой взгляд, он обратился ко мне: «А вы что, разве так не думаете?» Я промолчала. «Не можете не думать, – уверенно произнес мужчина, – Я же вижу, у вас глаза умные». Пьяным прохожий не выглядел, разве что слегка сбрендившим. О Ходаковском нельзя было сказать и этого. Тем не менее я спрашиваю:
– А вы не боитесь, что подобными дискуссиями льете воду на мельницу противника? Потому что ведь не только у вас, но и в России есть разные мнения по поводу Донбасса: и брать / не брать, и кто вы здесь вообще такие, либеральный сектор придерживается мнения, что здесь сплошные бандиты окопались, и тут они получают этому дополнительное подтверждение…
– Об этом задумываются только те, кто формируют общественное мнение; люди же в массе не мыслят подобными категориями. Местные, кстати, вообще плохо понимают распределение общественных мнений в России – и полагают, что вы там, за исключением узкой прослойки либеральной оппозиции, практически единодушны в отношении нас. У нас же в свое время встала дилемма: мы долгое время не выносили на люди свое отношение к происходящему, за редкими случаями вроде упомянутого запрета на собрания, но системной критике администрацию мы не подвергали, наоборот, я писал, что у нас есть какие-то проблемы и язвы, но мы не патологически больны… Со временем мы поняли, что от молчания становится только хуже. К тому же, когда мы называем вещи своими именами, мы не будоражим стабильное и гармонично существующее общество, а просто говорим то же самое, о чем люди говорят на кухне за граненым стаканом или за чашкой чая. Тем более, что, как отчасти родоначальники существующего порядка, мы несем за ситуацию свою долю ответственности – и общественную, и персональную. Если учесть, что мы считаем выбранную в 14-м году позицию объективно правильной и не разочарованы в том, что ее заняли, а в первом правительстве Бородая я возглавлял госбезопасность, моя правая рука был министром[7] налогов и сборов, левая – вице-премьером[8] по экономике, а сам Бородай жил одно время у меня дома, плюс недюжинный военный ресурс, достаточно дерзости и амбиций, – то можно предположить объем власти, который мы могли либо отдать, либо не отдать. Есть процессы, скрытые от широкой публики; когда Сурков Владислав Юрьевич сделал ставку на Захарченко по рекомендации Бородая, и здесь формировалась вертикаль власти, то помочь ей сформироваться и помочь запустить процессы можно было не только тем, что ты будешь перетягивать на себя кусок власти, но и тем, что ты от власти откажешься, просто чтобы окончить период семибоярщины. Отойти в сторону и дать тому, на кого, можно сказать, пало благословение, построить модель управления по своему усмотрению. Есть необходимость в определенной жертвенности. А ведь был период, когда именно мы стабилизировали ситуацию – существовали три мощные группировки, которые были, прямо скажем, не мирны между собою: Безлера, Захарченко и наша, и это я еще не принимаю во внимание Стрелкова, потому что он вышел в Россию. И мы чаще всего занимали миротворческую, третейскую позицию: когда между Захарченко и Безлером возникали пиковые разночтения, мы давали понять, что присоединимся к той стороне, по отношению к которой будет проявлена агрессия. Просто потому, что если перед лицом противника возникнет дестабилизирующий фактор, то придется занять сторону тех, кто остается на статичной позиции. И мы предполагали, что в дальнейшем получим причитающуюся нам долю админресурса и будем продолжать стабилизировать ситуацию… Я и Суркову в свое время так ответил на вопрос, какой я вижу свою роль в Республике, – мне всё равно, кем я буду, мне важно продолжать выполнять свои функции. Затем уже, после того, как Захарченко не подписал подготовленный закон о Совбезе, стало ясно, что есть задача концентрации власти в одних руках, которая серьезно осложнит выполнение мною этой функции по стабилизации обстановки. Было инициировано расследование в моем отношении, и я вот сейчас первый раз вам скажу… Мои хакеры вскрыли ящик, созданный для жалоб населения по моему адресу, – ну любопытно же, будут ли люди писать, как в 37-м году… И обнаружили там лишь одно письмо, в котором коллектив донецкого завода «Топаз», который выпускал военную технику спецназначения, сообщает о том, что при подходе украинских войск мы забрали у них систему «Мандат», которая предназначена для радиоэлектронной борьбы. Это несколько оборудованных машин, которые способны глушить весь радиообмен по фронту противника на девяносто километров, а в глубину на шестьдесят километров, – то есть представляете, что бы было, если б этот «Мандат» достался противнику? Все, кому следует, прекрасно знают, что эта наша акция была санкционирована, никаким самоуправством мы не занимались. Поэтому расследование закончилось ничем. А в тех грехах, что имели место в 14-м, мы давно уже покаялись – да, мы забирали транспорт, какие-то производственные, ремонтные мощности, снимали с разбитых и брошенных заправок оборудование… Недавно спросил у одного своего товарища из «Патриотических сил Донбасса» – скажи, мы хоть одну заправку отжали? А он человек глубоко верующий, поэтому подумал-повспоминал – и отвечает: нет, может где-то компрессор сняли, еще что-то, но в основном мы брошенные заправки ремонтировали и запускали обратно в работу. Или вот забрали мы на предприятии «Доратранс» ремонтную технику – но потом всю, что уцелела после боевых действий, вернули обратно, ничего не присвоили. И те, кто понимает, что мы без этого не могли в тот период, когда военные подразделения нуждались в хозяйственном блоке, они без осуждения к этому относятся; главное – называть вещи своими именами. Поэтому мы какой-то авторитет сохранили, и, пользуясь им, пытаемся не расшатывать ситуацию, как я надеюсь, а все-таки по-прежнему ее стабилизировать – потому что многие вещи, которые мы превентивно озвучиваем, не дают усугубиться негативным тенденциям. Например, мы сорвали закон о перераспределении заповедных земель, обозначили, что группы лоббистов хотят протащить через Народное собрание закон о возможности продажи заповедных земель в частные руки. Похожая ситуация была с законом о коллекторской деятельности – потому что как это? Представьте, в нынешней тяжелой ситуации уже были попытки вытребовать кредиты украинским банкам, причем некоторые чиновники нашего МинЮста были в этом замешаны, а тут это могло встать на официальные рельсы. Если подытожить, то несмотря на то, что мы иной раз выглядим этакими провокаторами, на самом деле и по преследуемым целям, и по результату служим стабилизации обстановки в Республике.
– Всё же – не кажется ли вам, что вся эта внутриполитическая борьба в ЛДНР серьезно осложняет перспективы интеграции региона с Россией, а ведь вы постоянно повторяете, что изначальной целью было именно это, а вовсе не полная независимость республик? Да и жители, по моим наблюдениям, надеются именно на воссоединение с Россией на тех или иных условиях.
– Абсолютно нет. Единственным по-настоящему серьезным препятствием интеграции, которое я вижу, является перенасыщенность региона оружием, которое здесь можно найти в каждом подвале. Что касается вопросов политических, то здесь есть свои сложности, и в основном это сложности метрополии – санкционный режим и неоднозначное общественное мнение у вас. Тем не менее, мы уже наблюдаем интеграцию в мягкой форме – признание наших документов, облегчение въезда на территорию РФ для наших граждан; это всё – муравьиные тропы, а вот когда произойдет полная переориентация промышленности Донбасса на Россию – то это уже будут широкие ворота, которые позволят нам быстрее двигаться в правильном направлении. И несмотря на кажущуюся половинчатость этого пути, мы всё равно сможем решить множество задач даже и без политического признания. Уставших, измученных людей интересует не формальный статус, а реальное положение вещей. Другое дело, что отсутствие политического статуса мешает нам пустить на территорию здоровую российскую бюрократию… Нет, я понимаю, что у вас тоже масса проблем… Но российское управление даст нашим людям куда больше социальных гарантий, нежели наш волюнтаристский во многом подход, – и не потому даже, что российскому бюрократу будет сверхценна жизнь и благополучие каждого гражданина ДНР, а потому, что он будет беспокоиться за влитые сюда российские деньги, за эффективность производства, и под это дело подтягивать и зарплаты, и социальную сферу. Тем более что у нас же, при всех промышленных мощностях, узкоспециализированный регион, Донбасс не производит массы продуктов, условно говоря, широкого потребления, и в изоляции мы долго не протянем: люди, которые могут работать, – уедут, останутся пенсионеры, которым некуда деваться, и мы здесь будем ходить по пустынным улицам и пинать мусорные пакеты. Никто этого не хочет, поэтому, по моим сведениям, более 70 % населения республик выступают за глубочайшую интеграцию с Россией – вплоть до присоединения. А мы, те первые, кто участвовал в инициации этих процессов, готовы в какой-то момент передать олимпийский огонь из своих корявых рук российским профессионалам; я лично говорил Суркову в свое время: дай бог, чтобы вы оставили нам кусок хлеба в виде пенсиона небольшого, медаль местного производства – Анну на шею, и довольно с нас, ведь свое место в истории – мы уже заняли. Нужно думать не о себе, а о народном благе.
* * *В конце нашей беседы Ходаковский, узнав, что я планирую проехаться по городам-спутникам Донецка, предлагает дать мне машину и сопровождающего в Ясиноватую. Этот городок к северу от Донецка считается своего рода «вотчиной» бригады «Восток», как бы феодально это ни звучало. Подобному гостеприимству возразить трудно.
Я выхожу во двор штаба, боец по имени Виталий уже заводит «Land Rover», на заднем сидении которого привычно лежит автомат. Мы обмениваемся с Виталием номерами республиканской сети «Феникс» – на всякий, как он говорит, случай.
– Мне пристегнуться? – спрашиваю.
– Нет, лучше не надо. Требование безопасности.
– Чтобы быстро выскочить, если что?
– Ну да.
Виталий чуть выше меня ростом и лет на десять моложе, ладный, вежливый. Яркие и ясные голубые глаза.
– У вас тут разное говорят про знаменитых командиров… – закидываю я удочку, обращаясь к Виталию.
– Да, чего только не было.
– А ваш?
– С Сергеевичем всё понятно. Он жесткий, но нет… фигни. Полная ясность.
…Ясиноватая – маленький и весьма уютный советский городок. Такой может найтись где угодно на теле бывшей Империи: хрущевско-брежневские пятиэтажки, Дом культуры, парк, заводское правление. Может, пригород Петербурга, может, Урал, Поволжье или, вот, Донбасс. Очень чисто. На постаменте посреди небольшой площади стоит горнопроходческий комбайн из тех, что в свое время производил Ясиноватский Машзавод.
Здание правления завода разгрохано прямой танковой наводкой. Советский еще танк стрелял в советский завод. Это нужно уложить в голове.
В Парке отдыха Железнодорожников гуляют пожилые пары и молодые мамаши с детьми. Рядом стоит паровоз. Он – памятник и никуда не едет. С недалеких здесь позиций «бахает». Люди вокруг не реагируют.
Я интересуюсь, нельзя ли попасть на позиции. Виталий отвечает, что «таких распоряжений от командира не поступало».
Мы идем по улицам, заходим в магазины. Я вижу, что в магазинах есть еда: город живет. Пожалуй, магазины даже побогаче, чем в Донецке. В одном их них мы покупаем кофе «три в одном» и пирожки с горохом, своего рода донецкий специалитет. Виталий настаивает, что угостит меня этими пирожками.
Мы лопаем пирожки и болтаем про местную жизнь. О том, как в одночасье перераспределились приоритеты – и военные, врачи, коммунальщики продвинулись наверх по социальной лестнице. По тону собеседника я слышу, что он считает такое положение вещей совершенно правильным.
* * *Вернувшись в гостиницу, я сообщаю Прилепину, что взяла интервью у Ходаковского – и хотела бы предложить его «Свободной прессе», где тот – шеф-редактор. Прилепин отвечает, что интервью с Ходаковским они публиковать не будут. На мои расспросы он сообщает о нежелательных связях «Скифа» (позывной Ходаковского) в Москве и в Киеве. По военному времени последнее звучит особенно круто. Впрочем, в интернете мне уже встречались версии о том, что Ходаковский – агент СБУ, и даже Моссада, поэтому я, что называется, не слезаю с Прилепина еще месяца полтора.
В следующий мой приезд Захар говорит, что постарается свести меня с советником Захарченко, Александром Казаковым, который прокомментирует «всё, что Ходаковский тебе наговорил».
«Только звони ему после одиннадцати, он работает по ночам», – сообщил Захар, скидывая мне контакт Казакова.
Встреча происходит в кафе на бульваре Пушкина, Казаков – без видимой охраны. Мой собеседник пьет кофе чашку за чашкой. Разговор идет не под запись.
Александр Казаков – человек интеллигентный и отчетливо невоенный, говорит образно, с примерами. Рассказывает в том числе известный мне уже случай о том, как Захарченко взвешивал на рынке свой пистолет, чтобы проверить честность торгующих, и о том, как после визита в один из прифронтовых поселков лично распорядился привезти старушке машину угля. О «виртуальной приемной» главы, куда сыплются обращения граждан к «Бате» (позывной Захарченко). О мужестве, проявленном Александром Владимировичем в ходе боевых действий. По эмоциональному впечатлению от слов Казакова, глава Республики на этой территории – тип культурного героя, совершающего попеременно военные и филантропические подвиги. И даже с чужих слов я заражаюсь обаянием этой личности, пусть в отношении советника к патрону и сквозит несколько наивная очарованность интеллигента – могучим, истинно народным характером.
При этом я не могу не держать в голове того, что системные недостатки республиканского менеджмента, о которых говорил Ходаковский, могут быть обусловлены как раз этой завязанностью всех нервов сообщества – на одну ключевую фигуру.
Разговор наш затягивается, а Казакову надо провести совещание с журналистами и блогерами в Министерстве информации. Едем туда. За длинным столом сидят республиканские чиновники, представители СМИ и блогеры. Обсуждают не совсем понятные мне информационные войны, идущие в соцсетях. Я слышу несколько фамилий блогеров, на которых подписана. В том числе фамилию «Манекин». Как понимаю, «войны» эти идут в основном между сторонниками Республики, у которых – просто разные взгляды на ее обустройство. Украинский фактор рассматривается скорее как неизбежный фон нежелательного влияния.
После совещания у Казакова еще одна встреча, до которой остается около часа. Он предлагает мне заехать поесть – и договорить заодно. Мы отправляемся в ресторан «Пушкин» и садимся на террасе под белым шатром. Ресторан фешенебельный, цены вполне московские; глядя в меню, я прикидываю, чего бы такого заказать, чтобы не разориться. Казаков советует мне карпа в сметане и деликатно намекает, что я, мол, гость – и могу не стесняться. Я соглашаюсь на карпа. Прикидываю, что в любом случае смогу его оплатить – в первый свой приезд мне пришлось вытаскивать деньги с российской карточки через «жуликов», полуподпольную контору по обналичке, на сей раз я еще «за ленточкой», как здесь называют границу, запаслась кэшем.
Пока ждем еду, касаемся вопроса Ходаковского (они, так скажем, оппоненты, и Казаков настроен к Ходаковскому весьма недоброжелательно). Один Александр сообщает о другом ряд подробностей, не то чтобы леденящих душу, но определенно заставляющих задуматься. Затем я задаю вопрос, который беспокоит меня едва ли не больше всего: к чему всё идет и какие, вообще говоря, цели у «проекта ДНР». Казаков молчит с полминуты, что для него нетипично.
– Могу я задать вам такой вопрос? – повторяю я.
– Конечно, можете! – наконец улыбается Александр, слегка склонив голову и пристально на меня глядя; я уже отметила эту повадку собеседника: в острые моменты разговора склонить голову и немного набычиться, сверля тебя ярко-голубыми глазами. – Но я вам попросту не смогу на этот вопрос ответить. Потому что, если я эти цели обозначу, нас просто порвут. В любом случае, это будет преждевременно. Скажу только: я – человек Империи, и выступаю за ее максимальную целостность…
Вскоре к нам присоединяется военкор с позывным «Север». Он рассказывает о том, как напросился на выход с минометным расчетом, и как после «отработки» по позициям противника они еле унесли ноги. От «Севера» хлещет адреналином.
Затем подъезжает машина, из которой выходят сначала бойцы с автоматами, осматривают ресторан и занимают периметр. Это «личка» министра доходов и сборов ДНР Александра «Ташкента» Тимофеева, с которым у Казакова и назначена встреча. Министр в камуфляже проходит за стол и пожимает руки всем собравшимся, я тоже после некоторого колебания протягиваю ладонь; у грозного «Ташкента» рука – полноватая и словно бескостная, ощущение – будто жмешь край подушки; при этом что-то в этом пожатии сообщает трепет. О Ташкенте говорят в том числе как о главной грозе донецких коммерсантов, из которых он вытрясает те самые «доходы и сборы». Казаков с Ташкентом говорят о делах, упоминается в том числе позже увековеченная Захаром Прилепиным в романе «Некоторые не попадут в ад» «вундервафля» – страшное секретное оружие Республики, разработанное под руководством Тимофеева. (В тот раз я была предупреждена, что всё, звучащее за этим столом, не предназначено для публикации. Но после романа, думаю, уже можно.)
…Попытка сделать сборный материал в виде заочного диалога между тогдашней властью ДНР и ее главным оппонентом Ходаковским, одновременно и одним из зачинателей донбасского сопротивления, в тот раз провалилась: моей осведомленности попросту не хватило для выработки хоть сколько-нибудь самостоятельной позиции. Я взяла паузу, а чуть позже узнала, что фокус не удался бы в любом случае – Ходаковский на тот момент находился в медийных стоп-листах как местного, так и федерального уровня.
Интермедия третья,
о шекспировских могильщиках и превратностях войны
Возвращаясь в март 2017 года, вспоминаешь прежде всего постоянное напряжение неизвестности, и это при том, что в тот раз я даже не попала на позиции. Скажу больше: напряжение это не возникало именно в прифронтовых районах, куда я ездила по определенным делам и чаще с каким-никаким сопровождением, скорее оно было разлито в атмосфере огромного города, живущего по непонятным мне в то время законам. Как оказалось, к этому нельзя было подготовиться, читая сводки с Донбасса и комментарии очевидцев.
…Я иду завтракать в кафе на улице Челюскинцев, где работает моя новая знакомая Ольга, миловидная женщина с двумя детьми и большими проблемами. Зарплата Оли в кафе, где она выполняет работу кассира, официантки, и, как я подозреваю – еще и повара и уборщицы, составляет менее трех тысяч рублей. Правда, у нее есть сменщица, то есть она работает не 30 дней, а 15.
История Оли – очень простая человеческая история. Она жила гражданским браком более десяти лет, родились две дочери. В апреле 2014 года муж поехал в Славянск отвозить гуманитарку, машина попала под обстрел, у мужа – восемь пулевых и осколочное. Доставали с того света всем Донецком; до войны здесь очень хорошая была медицина. Выжил. Пошел воевать. Оля тоже пошла – писарем при штабе. И всё, как говорится, завертелось. В 2015-м Оля уехала с дочками в Ростовскую область, а муж нашел себе новую подругу. Вроде бы каждый выбрал свой путь. Но в России Олю и ее детей никто особо не ждал: работала на подсобных работах, жили в бараке… Заболела мама и вскоре умерла, заболел отец, Ольга вернулась. Дом – в обстреливаемой зоне. Вернулся также и муж: с подругой разошелся и на войне помотало.
– Я его не звала, – говорит Оля; потом добавляет жестче: – Он мне такой не нужен. Он ворует у детей еду.
Я видела этого человека – изящный, тихий, прихрамывает. Мы стояли на троллейбусной остановке, на мой невинный вопрос об одном из командиров ополчения он слегка присел и ответил: «Я еще жить хочу». Это был первый раз, когда я поняла, что есть люди, которым ни в коем случае нельзя сталкиваться с войной.
– Ну что, куда сегодня? – спрашивает меня Оля, пока я прихлебываю чай из пакетика с горячим бутербродом вприкуску.
Солнце уже припекает, мы сидим за деревянным столом под каштанами.
– Завтра встреча с военным одним, а сегодня проедусь на Октябрьский поселок.
– Ты осторожнее, там прилетает, да и народ пуганый, одного журналиста с камерой едва не прибили – думали, корректировщик…
Поселок, названный по имени шахты – «Октябрьская», расположен на западной окраине Донецка, в прифронтовой зоне. Это один из самых пострадавших, да и до сих пор страдающий от обстрелов, районов города. В центре «Октябрьского» позже будет открыт памятник погибшим жителям района, отдельно – погибшим детям.
Еду в сторону ж/д вокзала на троллейбусе. Выхожу и, как непуганый идиот, начинаю фотографировать забранное стеклом здание с гордой надписью «Донецк». Вскоре ко мне подходят два бойца. «Девушка, пройдемте». На шевронах – знак батальона железнодорожной охраны. Один повыше, с недостачей зубов, стремный. Второй – изящный длинноносый хлопец с мягким хрипловатым голосом.
Военные заводят меня в пустынное здание вокзала, смотрят мой паспорт, и в то же время поглядывают на сумку с гюйсом российского флота, похожего на флаг Новороссии.
– Да наша она, что ты, Дуб… – говорит длинноносый.
«Дуб» важно листает мой паспорт РФ в обложке из фильма «Deadman».
– Наталия Курчатова, о как! Санкт-Петербург! А что это у нее на паспорте мужик с пистолетом?
К нам присоединяется гражданский сотрудник железной дороги, немолодой уже дядька, что-то говорит парням. Наконец, Дуб решает:
– Я сейчас наберу военкора нашего, он тебе расскажет, как здесь себя вести…
Бойцы удаляются для звонка. С моим паспортом. Я прогуливаюсь вдоль панорамных окон, щурясь на солнце. Дяденька-железнодорожник подходит, качая головой, и говорит вполголоса и накоротке:
– Наташка, ну ты либо бесстрашная, либо совсем без башки…
Военкором, которого мне вызвонили бойцы для инструктажа, оказывается Дмитрий Гау – первый «голос Республики», что в свое время посидел на подвале, кажется, у «казаков». Сейчас Гау служит в одном из батальонов и говорит, что это «куда спокойнее, чем быть журналистом». Еще он прихрамывает – поговаривают, что на том же подвале ему поломали ноги. Гау настоятельно советует мне сделать республиканскую аккредитацию и подробно объясняет, как.
Расставшись с ним, я сажусь на троллейбус и еду в ОГА – ныне Дом правительства ДНР. Отмечаюсь на вахте, беру пропуск и поднимаюсь на лифте. Время еще не позднее – часов пять вечера. Заглядываю в кабинеты Министерства информации, на которых вместо табличек – распечатанные на принтере указатели. Кабинеты пусты. Наконец, мне везет – и я встречаю сотрудницу, которая сообщает, что «все ушли, сегодня короткий день». На самом деле, все дни на воюющем Донбассе – короткие; из-за комендантского часа жизнь сместилась на крестьянский ритм: день у всех начинается в 6–7 утра и заканчивается примерно в 22. Аккредитацию я в тот раз так и не получила.
Про «казаков» я узнаю завтра, когда приезжаю «на Прагу» – в расположение так называемого «батальона Прилепина» в бывшем отеле на берегу одного из ставков[9]. Рядом – элитный поселок; местные с иронией называют его «поселок Демьяна Бедного» – по названию одной из улиц; сейчас многие дома здесь пустуют.
Офицер в чине старшего лейтенанта, которого мне порекомендовал Захар, встречает меня на караулке. Позывной – «Варяг», высокий и красивый парень. Личность достаточно известная – один из первых активистов «русской весны» на Донбассе, которого на украинских ресурсах аккредитуют как русского националиста. Сейчас Варяг или, в миру, Александр Матюшин – скорее евразиец, из тех, кто вдохновлен идеями Александра Дугина.
Варяг занимается в батальоне в том числе и работой по сопредельной с моею специальности. Сейчас ему нужно записать интервью с бойцами, которые они выкладывают на «YouTube», – контрпропаганда. Мы садимся в импровизированной студии, Варяг опрашивает сослуживцев, я слушаю. Рассказывают в основном про зверства украинских войск.
Затем, не под запись, Варяг скажет мне:
– В этом отеле, «Прага», до нас стояли вроде бы наши, так называемые «казаки». И то, что творилось у них на подвале… Но мы это всё… вычищали, – Варяг решительно тушит сигарету; до батальона он некоторое время прослужил в республиканском МГБ.