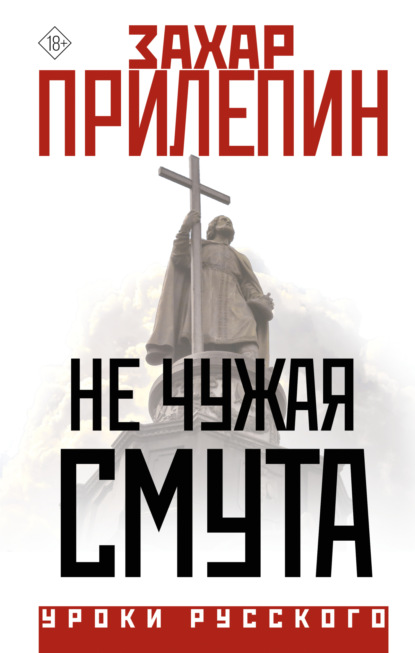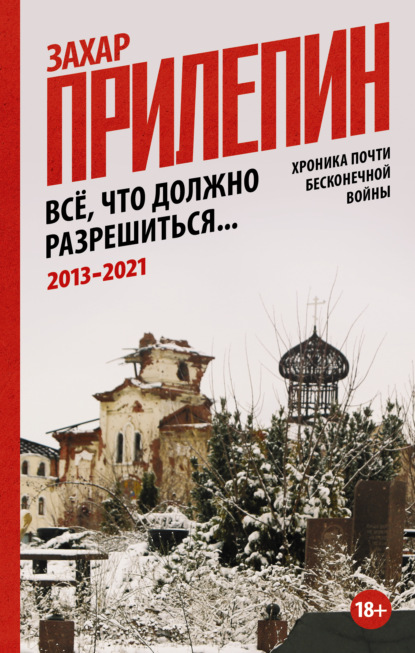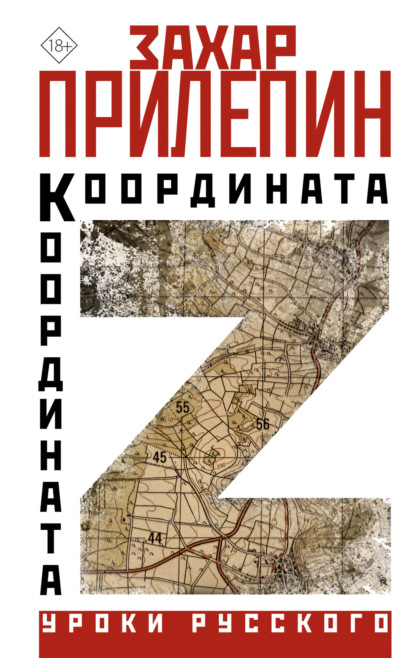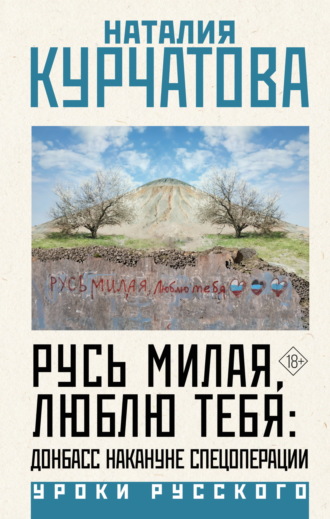
Полная версия
Русь милая, люблю тебя: Донбасс накануне спецоперации
– Да, из Санкт-Петербурга.
– А я из Ижевска. У меня тут проблема одна… Мне не заплатить за телефон. В офисе «Водафона» эти девушки… не очень ко мне расположены. Вы не могли бы, когда пойдете в город, кинуть мне на номер пару сотен?
«Водафон» был украинским филиалом МТС, в то время эта компания еще активно работала в Республике. Позже, в момент очередного обострения конфликта, «Водафон» прекратит обслуживание абонентов ДНР, так что нелюбезность девушек в их офисе к человеку с азиатской внешностью и северным выговором была, думается, не случайной. К тому же при оплате услуг связи они требовали личные данные, что, как я поняла позже, также могло смутить моего соседа. Так или иначе, мне довольно быстро удалось найти терминал, где личные данные не требовались.
Вечером я занесла соседу чек. «Да мне уже смска пришла, спасибо!» – сообщил сосед, и пригласил меня выпить с ним коньяку. Я решила не упускать возможность выяснить, каким ветром человека занесло в Донецк (ответ – северным), и мы присели за столик у балкона: соседу повезло с номером в этом смысле, мой-то был без, и курить приходилось идти на лестницу. На столе был армянский коньяк, лимон, чай в пакетиках и вкуснейшая, очень недорогая полукопченая колбаса местного производства. Я сама покупала такую; на ценнике стоял значок «сделано в ДНР». Собеседник был немногословен, но практически всё, что он говорил, тянуло если не на закрытую информацию, то на нежелательную в то время к публикации – уж точно.
Сосед мой оказался не «отпускником», но «отставником». Родом – из Казахстана, начинал службу в Советской Армии, прошел Афганистан и обе Чеченские. В звании майора, на пенсии.
– Сидел себе в Ижевске, ловил рыбу, приглядывал за внуками… Потом по нашим каналам прошла информация, что набирают добровольцев с военным опытом на Донбасс. Я и подумал: а чем я таким занят, что мне не поехать? Я ж советский еще, мне всё понятно… Вот, жду распределения в часть.
Мы курили на балконе. Был угольно-черный южный вечер ранней весны, из-за реки погрохатывала артиллерия. Я заметила, что прошедший три войны и приехавший на четвертую майор ниже меня на полголовы.
На следующее утро я в назначенный час приехала к Бабицкому. Оказалось, что Андрей после моего ухода вовсе не закончил с виски, поэтому за руль ему нельзя. Но ехать – надо. Он подвел меня к окну и показал во дворе фургончик, «на котором мы бы поехали».
– А так – придется тебе ехать на такси. Поездку эту я оплачу. Ехать вам придется через обстреливаемый район, ну да заодно и посмотришь… специфику.
Так я оказалась в машине шофера Дмитрия, который раньше возил бригады тележурналистов и многое мог порассказать, с крупной суммой денег от Бабицкого, который видел меня второй раз в жизни, по дороге из Донецка на Луганщину.
Команда «Россия»[3]
Очерк о поездке в Лутугинский интернат
Дети и война – такого, сочетания, конечно, быть не должно. Но оно вновь случилось на нашей земле. Как мы это допустили? – один вопрос. Другой – как дети с этим справляются?
Давая мне поручение отвезти в коррекционный интернат городка Лутугино пожертвование от своего канадского знакомого и подарки – от себя, журналист Андрей Бабицкий предупредил, что ехать придется через обстреливаемый район. Но в этот день на исходе марта о войне здесь напоминают лишь патрули на дорогах да редкие следы «прилетов» – трудолюбивый и домовитый народ Донбасса ремонтирует всё на удивление быстро.
– А дороги на Луганщине и до войны были ужасные, – комментирует бывалый таксист Дима, в свое время возивший по районам боевых действий и российских тележурналистов, и наблюдателей ОБСЕ.
Дима развлекает меня фронтовыми байками – о том, как украинцы через сомнительный источник заманили русских журналистов на горячий сюжет и обстреляли из минометов, о том, как два БТРа из добробатов держали под прицелом танк ВСУ, заставляя экипаж стрелять по поселку, а как только ополченцы спалили одну машину и прогнали другую, «танк, вы представьте, сразу развернулся и уехал!».
Бабицкий рекомендовал подарки – фрукты, конфеты, сок – купить в Лутугино, а не в Донецке: выйдет, мол, дешевле. Добравшись до городка (18.000 жителей, градообразующее предприятие – комбинат, изготавливавший валки для металлургической промышленности, производства резины, бумаги и даже размола муки и соли, главой города какое-то время был второй знаменитый доброволец из Ухты после Арсена Павлова «Моторолы», Егор Русский), заходим в местный супермаркет. Вход в магазин – через кафе-столовую, на диво чистую и современную. В самом супермаркете тоже всё блестит, включая полупустые полки. Цены не особо отличаются от донецких, но местный рынок в два часа дня уже закрыт. Мы скупаем почти весь сок и конфеты в магазине, а также берем те фрукты, что поприличнее, – нет, гнилья нету, но всё очень вялое, будто это не южный край, где местные яблоки лежат в погребах до весны, а какая-то всамделишная Ухта. Продавцы с энтузиазмом принимают в нас участие, притаскивают со склада коробки, чтобы удобнее всё упаковать.
– Вы всю войну работали? – спрашиваю я женщин.
– Да… Мы, было время, даже сами хлеб пекли… Сейчас-то с поставками поприличнее.
– И что, постреливают у вас до сих пор?
– Сейчас уже гораздо, гораздо меньше… Но бывает.
Лутугино летом 2014-го несколько раз переходило из рук в руки, были сильные разрушения. На сентябрьском ролике из ютуба видна целая колонна сожженной техники ВСУ и разбитые площади комбината. Сейчас центр городка производит вполне мирное впечатление – если бы не некоторое безлюдье. Обстрелы, как правило, начинаются вечером, поэтому весь Донбасс живет в первой половине дня.
В интернате разговариваем с завучем Любовью Владимировной Потынной. Директор – Любовь Павловна Шаменко – находится в больнице в Луганске (сердечный приступ). Но, как настоящий командир своего маленького подразделения, отвечает на телефонный звонок. Голос слабый. Рассказывает, как летом 2014-го всех воспитанников, девяносто восемь детей, вывезли в Одессу. К лучшему, потому что вскоре начались активные бои. Сейчас, правда, дети пишут сообщения «ВКонтакте», просятся обратно.
После возвращения города под контроль ЛНР в сентябре 2014-го здание интерната оказалось серьезно повреждено. Нам показывают следы минометного обстрела, а также тщательно заделанную дыру в фасаде:
– Стояк был поврежден, здание просело, три классные комнаты разрушены. Стреляли из танка прямой наводкой, – рассказывает Любовь Владимировна.
– А кто стрелял-то?
– Да кто теперь разберет! Может, и ополченцы, когда отбивали. А ВСУ когда заходили, то кинули в подвал гранату. Наша ночная воспитательница спряталась там с семьей, еще кто-то из поселковых там укрылся от обстрела. А они дверь подергали – закрыто, да и закатили гранату в подвал. Парня одного сильно ранило, в реанимацию увезли, все остальные с осколочными, и собаку, что с ними была, контузило. ВСУшники потом хватились – це місцеві, це місцеві… Мол, думали, что «боевики». Ночная наша, как вернулась домой, увидела, что у них тоже подвал раскурочен – так что не эта, так та граната в любом случае бы их нашла.
Один из эффектов войны – люди мобилизуются вопреки всему. Сколько подобных интернатов и на Украине, и в России влачат жалкое существование, но Лутугинский – во многом, как говорят сотрудники, энергией своего директора, – был восстановлен менее чем за полтора месяца.
– У нас был раньше исключительно сиротский профиль, но еще в мае-апреле мы начали оформлять документы, чтобы брать и других ребят. Ведь во время войны многие семьи оказались в тяжелом положении. Поэтому после восстановления мы набрали не только сирот, но и детей из неполных семей, потерявших кормильца или дом, или просто в тяжелом материальном положении. У кого-то, например, нет денег угля или дров купить, топить нечем, и в доме зимой холодно. А у нас тепло, хоть и всего три котла, а нужно вообще-то четыре… Все дети у нас с диагнозом ЗПР – задержка психического развития, интернат всё же коррекционный, тех, кто может учиться в общеобразовательных заведениях, мы не можем брать. Но практически все дети у нас начинают общаться, читать-писать и так далее. До войны почти все воспитанники поступали в техникумы, некоторые и в вузы.
Интернат открылся заново 17 октября 2014 года. Сейчас в нем учится 128 детей с четырех до шестнадцати лет, есть дошкольная группа и классы с первого по девятый. Красивый танцевальный зал, библиотека, в классах – цветы. Во дворе – футбольное поле, теннисные столы. Бегает маленькая темно-серая собачка.
– Не та, которую контузило?
– А, вы знаете, сколько их у нас!
Небольшой садик: тополя и туи.
– Все деревья инвентаризованы. Некоторые, правда, были утрачены во время боев. И на футбольном поле были воронки.
В вестибюле – довоенное еще панно с запорожскими казаками.
– Закрашивать будете? – в шутку интересуюсь я.
– Мы что, больные?
К Украине как государству после войны отношение, мягко говоря, сложное. Но завуч Любовь Владимировна – преподаватель украинского языка – говорит, что до сих пор думает на двух языках. И ненависти у этих женщин нет. Есть – непонимание.
В маленьком музее – поделки воспитанников и уголок боевой славы, мундиры ветеранов. Еще не этой войны, а более ранних – Великой Отечественной и Афганской.
– Как сказывается на детях война?
– Они какие-то более серьезные становятся. Дети, которые пережили горе, которые были под бомбежками, они знаете сколько видели? Вы такого не видели… Некоторые боятся громких звуков. Одна девочка стала бояться высоты – всё время ходит и за стенку держится. Да вы сейчас сами посмотрите. Большинство разъехались по домам, сейчас же каникулы, остались те ребята, кому некуда…
Татьяна Николаевна – классный руководитель 1 «Б»:
– Тут, понимаете, есть такие истории – мама, например, с детьми в четырнадцатом выехала в Россию спешно, бежали буквально, документы утеряны, считаются без вести пропавшими и пособий не получают, пока восстановят, пока то-се… Трудное положение. Есть и дети ополченцев. Многие прошли обстрелы, сидели по подвалам – один мальчик, например, не может слышать даже звук лопнувшего воздушного шарика. И еще история с ребятами, которых в Одессу увезли, – они очень хотят вернуться, особенно те, кто постарше. У кого-то здесь остались опекуны, бабушки в основном. Но с той стороны пишут – не отдадим, мол, детей сепаратистам.
Две воспитательницы приводят группу первоклассников. Единственное их отличие от детей «обычных» – то, что они какие-то очень тихие. Не шумят, не бегают.
– Дети, вам привезли подарки. Давайте сфотографируемся, – говорят воспитательницы.
Никто из малышей не торопится хватать конфеты и яблоки. Светловолосому Виталику дают в руки торт, он улыбается и поднимает его над головой.
Я снимаю. Мне неудобно, но нужно для отчета.
Две девочки стоят с куклами, действительно очень серьезные.
– Как зовут твою куклу? – спрашиваю я.
– Давай будет Алиса, – подсказывает воспитательница; девочки молчат.
Мальчишки немного более оживлены.
– Ребята, мне сказали, что у вас сегодня футбол. С кем будете играть?
– С другой командой! – раздаются голоса.
– С ребятами из поселка, – поясняет одна из воспитательниц.
– Со старшаками! – мальчики.
– Хорошо. А как называется ваша команда?
– Россия! – хором отвечают несколько пацанов: Женя, Сережа и беленький Виталик.
– …У нас несколько воспитанников в ополчение ушло. У кого как сложилась судьба… Те, кто живы-здоровы, заходят иногда или присылают подарки, молодцы, не забывают, – говорит Любовь Владимировна. – Хорошо бы, конечно, поскорее всё это закончилось.
Детей уже увели воспитательницы, они помахали мне и шоферу Диме на прощанье и пригласили «приезжать снова»; рядом крутилась маленькая серая собачка – не та, которую контузило, а какая-то еще.
Интермедия вторая
Дарджилинг у Ходаковского, пирожки с горохом в Ясиноватой и карп в ресторане «Пушкин»
Вернувшись из Лутугино, я отчиталась Андрею о поездке расписками за деньги и чеками на продукты, а когда незадолго до комендантского часа вернулась в отель, освободившийся номер моего соседа из Ижевска уже убирала горничная.
Приходит сообщение от Прилепина: он находится в Греции с неким дипломатическим поручением от Захарченко. Также мы созваниваемся с Рамилем Замдыхановым – помощником Ходаковского; тот сообщает, что его патрон готов встретиться со мной завтра утром.
Интервью с Александром Ходаковским устраивается по нехитрым, но всё же конспиративным правилам: после ряда созвонов и рекомендаций меня встречают у гостиницы, при этом машина останавливается не прямо у отеля, а на небольшом отдалении. Происходит визуальный контакт, автомобиль подъезжает.
По пути я закидываю посредника вопросами о его отношениях с шефом и о ситуации в Республике. Паранойя дончан, обычная для прифронтового города со специфическим правовым статусом, при некоторых навыках коммуникации заканчивается через пятнадцать минут беседы. Выговориться хочется всем.
В этот раз мой собеседник настолько увлекается, что сворачивает на улицу с односторонним движением. Пока мы сдаем задним и выезжаем дворами, он рассказывает подходящий случаю анекдот – про водителя, который слышит по радио объявление о сумасшедшем, едущем по встречке, и комментирует: «Да если бы только один такой придурок! А ведь их тут десятки!». Не могу отвязаться от мысли, что примерно так на сей момент устроена политическая жизнь в непризнанных республиках. Остается вопрос: кто именно едет по встречке?
Первый разговор с Александром Ходаковским – о проблемах переходного периода, в ожидании здоровой российской бюрократии и Анны на шею[4]
Войну на Донбассе – или на востоке Украины, терминология может различаться в зависимости от точки зрения, – называют «гибридной», и как раз насчет этого определения разногласий нет. Между тем в непризнанных республиках существует еще и обыденная, и общественная, и даже некая политическая жизнь – при том, что, как настаивает руководство ДНР, политики в классическом смысле слова при военном положении нет и быть не может. Как бы то ни было, эти стороны жизни при взгляде из России лежат в густой тени: заинтересованный читатель или зритель неплохо осведомлен об обстрелах и боестолкновениях, скорее всего знает в лицо и по именам наиболее известных командиров ополчения, но и процессы гражданского строительства, и повседневную экономику, и даже быт жителей Донбасса – представляет смутно.
К политической жизни (коль скоро собственно политики в регионе нет) мне случилось зайти, так скажем, с запасного хода – первой встречей, определившей повестку дальнейшего информационного поиска, была встреча с Александром Сергеевичем Ходаковским.
Бывший министр госбезопасности ДНР в правительстве Александра Бородая, основатель и командир знаменитого батальона, затем бригады «Восток», до войны – начальник отдела Центра спецопераций СБУ по Донецкой области, донецкой «Альфы», сейчас[5] Ходаковский – лидер общественного движения «Патриотические силы Донбасса»; также он называет себя «конструктивным оппозиционером» администрации Александра Захарченко.
Благожелательные источники характеризуют его как человека умного, принципиального, но крайне амбициозного и непредсказуемого, менее расположенные подозревают в тесных связях с Ринатом Ахметовым и «реакционными кругами в Москве», а кто-то даже напрямую называет «врагом Республики». Дончане тоже говорят разное – одни ценят его как достойного и грамотного командира, но упрекают в «отжимах» собственности, другие, наоборот, замечают, что Ходаковский за время войны ничуть не обогатился и «живет в том же доме, что и раньше, построенном из каких-то шпал».
– Мою позицию по отношению к руководству ДНР я бы охарактеризовал как конструктивную, – скажет мне чуть позже Ходаковский. – Руководство республики нуждается в том, чтобы у него были системные, конструктивные критики. Моя позиция – ничего личного, из субъективного – лишь отголоски старых симпатий, не более того. Ключевая точка нашего расхождения – разная ментальность. Весь мой жизненный опыт построен на том, что я – правоохранитель, сатрап, человек, который выступает за общественный гомеостаз, за стабильность: вся власть, что не от Бога, – это не власть.
Штаб Ходаковского расположен в небольшом здании в частном секторе, бывшей базе батальона, затем бригады «Восток», которому он был и основателем, и командиром. Обстановка – военная. Кабинет хозяина не назовешь ни скромным, ни роскошным, скорее он функционален. Единственная явная печать личности – прикладное и религиозное искусство. Герб России (не ДНР) за креслом хозяина, картина с изображением памятника Минину и Пожарскому на фоне собора Василия Блаженного, а также многочисленные иконы. Ходаковский ловит мой взгляд и объясняет:
– Это не демонстрация моей религиозности, хоть я ее и не скрываю. Просто люди дарят, и человеку приятно, когда подарок – на виду.
У Ходаковского – правильное лицо конфуцианского военачальника: крупный лоб, умные и пристальные темные глаза, орлиный нос. Только в нижней части лица, выраженных носогубных складках и мрачноватой линии рта есть что-то безотчетно напрягающее. Как будто человек подспудно ожидает от мира чего-то плохого.
Пока же этот человек просто спрашивает – чай или кофе, и с некоторым даже удовольствием принимает мой выбор чая. Теория о понимании людей по принципу чай-собака-Пастернак в этом случае очевидно работает. «А где вы собираетесь опубликовать этот материал?» – спрашивает Александр Сергеевич, доставая чашки. Я сообщаю, что есть несколько вариантов. «Сомневаюсь, что у вас получится, – без видимых эмоций сообщает он. – Впрочем, давайте поговорим».
– То, что интересует меня более всего – стабильность, спокойствие. – Наливает чай. Дарджилинг. – Даже когда у нас был период вакханалии 14-го года, и городские светофоры работали в мигающем режиме, – мы старались соблюдать правила, пусть в этом, казалось, и не было необходимости.
Всё верно, думаю. Милиционеры, тем паче «безопасники», – бывшими не бывают. Впрочем, на «типичного силовика» Александр Сергеевич не похож; по крайней мере, я никогда не встречала раньше силовика, который говорил бы столь длинными, почти безупречно логически выстроенными периодами.
– А те парни, что сейчас представлены во власти, – они являются носителями другой ментальности. На мой взгляд, она слишком вольная с точки зрения трактовки правил общественного устройства. Они не законники точно. Из этого коренного отличия и вырастают наши разногласия. Например, я формирую свое окружение на таких принципах: я считаю, что люди должны абсолютно безотчетно и самоотверженно отдаваться делу, гореть идеализмом, думать в первую очередь об общественном благе, а о личном – во вторую, потому что о нем тоже не думать нельзя… А многие люди из окружения Александра Захарченко, на мой взгляд, думают прежде всего о личном благе. Отсюда такое количество жалоб и нареканий от людей, которые даже самого главу Республики вынуждают признавать коррумпированность нашей власти. Происходит это в том числе от того, что на определенном этапе опорой власти стал ряд представителей так называемого системного криминала – скорее всего, это было обусловлено попыткой справиться со старым криминалитетом Донбасса руками новых приближенных того же типа, но принцип «лечи подобное подобным» здесь не сработал, потому что эти люди, оказавшись приближены к власти и получив некий ресурс, продолжают общение и с гражданами, и с бизнесом – традиционными для них методами. Что касается самого Александра Захарченко, то мне сложно оценивать его роль на нынешний момент, потому что в этой должности и в нынешней ситуации он скорее жертва обстоятельств и отчасти заложник своего окружения, он не может позволить себе такую роскошь как достижение собственных принципиальных задач, а вынужден реагировать по мере развития событий.
– У вас же были с Захарченко товарищеские отношения, сохранились ли они?
– У нас были общие задачи, которые нас объединяли, и на этой почве, безусловно, возникали товарищеские отношения… Хотя бы потому, что над нами каждый день висела угроза быть смятыми наступающим противником и обращенными в режим уже партизанской войны. Это объединяло: срабатывали естественные законы, когда ты на правом фланге, он на левом, и любой прогиб линии обороны под воздействием внутренних проблем приведет к тому, что проиграют – все. Так что тогда вопросов не было. Потом… пошло разделение на своих и чужих.
После паузы добавляет:
– Я поклялся… что никогда не ударю ему в спину.
– Прозвучало слово «вольная» по отношению к нынешней властной ментальности ДНР. Честно говоря, у меня первое впечатление несколько иное: впечатление закрытости власти даже в тех моментах, которые не касаются напрямую военных дел. Да и горожане зачастую говорят о том, что затевали народную республику, а появились, мол, новые паны́.
– Это именно то, о чем я говорю: основным принципом устройства элиты стала личная преданность, и вольность для своих сочетается с закрытостью от общества. В моих, например, отношениях с ближайшими соратниками и даже друзьями нет принципа, когда им в обмен на лояльность позволено преступать правила. Нормы поведения должны быть более-менее общими для всех… К тому же есть определенный кодекс поведения, который именно военные люди, обладающие властью, должны соблюдать с особенной четкостью. Либо правила существуют снизу доверху и для всех, без возможности спекуляций на личных отношениях, либо начинается вот эта практика выборочной неприкосновенности, телефонных звонков и прочего – тогда и формируется узкая каста, которой позволено многое, и остальные, которые в этот формат не вписаны и живут по другим правилам. Отсюда рост уровня напряженности и дезориентированности в обществе, а он, в свою очередь, еще более стимулирует закрытость элиты и от народа, и от несанкционированных журналистов, которые могут невыгодно осветить состояние внутренней атмосферы. К сожалению, для замкнутых систем вроде нашей – небольшая территория в условиях уже довольно долгой войны – это обычное явление. Поэтому я представляю, что по приезде из России, где, конечно, своих проблем хватает, но всё же это огромная страна с рядом отлаженных механизмов, которая может позволить себе достаточно высокую степень плюрализма, наша ситуация выглядит герметичной, душной, невентилируемой.
– Знаете, из России у сочувствующих республикам людей на фоне ряда убийств популярных командиров складывается ощущение как раз какой-то беспечной вольницы, которая не может защитить себя от натасканных НАТОвскими инструкторами спецов из СБУ. Но когда видишь здесь эту закрытость, слышишь разговоры о всесильном МГБ ДНР, то становится совсем непонятно, как же такое стало возможным.
– Вот тут как раз не надо за уши притягивать, просто представьте: человек, который командует подразделением в боевых условиях, управляет боем и постоянно подвергает себя предельному риску, не может возвращаться по месту дислокации – и там принимать какие-то беспрецедентные меры безопасности. Это просто психологически невозможно. То есть или ты не ездишь на передовую и посвящаешь себя сохранению собственной персоны, или, если уж ты воюешь, то живешь в режиме риска и некоторого фатализма более-менее постоянно. У Арсена «Моторолы», например, хоть и была личная охрана, но подъезд не охранялся специально, и осуществить там закладку для профессионала не составляло труда. И если бы я, в свою очередь, занимался нейтрализацией всех рисков, то просто надо было бы в подвале закрыться и умереть там в итоге от удушья. Выбор сделан, и надо просто заниматься какой-то продуктивной работой. Что касается свободы и волеизъявления людей, то для меня похоронами для нашей атмосферы народного подъема 14-го года стало постановление года 15-го о запрете на митинги и вообще массовые собрания. Только состоялся «Минск»[6], относительно стабилизировалась ситуация… Вся эта «русская весна» и случилась-то благодаря массовым собраниям, шествиям, – и тут этот запрет. Хотя что изменилось? Люди перестали желать добра Республике? Ополчились против нее? Нет. Так наоборот, нужно всё это приветствовать, причем не в формализованном стиле. Но что получилось? – собрания запретили, а вместо этого создали какой-то конструкт в виде «государственных общественных организаций», – только вдуматься, как это? Государственные они – или общественные всё же? Добровольные объединения граждан стали госпредприятием, и шаг за шагом настоящее живое тело стало превращаться в манекен. То, что дышало и рождало какую-то энергию, какие-то смыслы, пусть и разнообразные – одни за Российскую империю, другие за православное государство, третьи за Советский Союз, четвертые вообще за анархизм, пятые просто мотивированы – хотели быть с русскими, с Россией, и без навязанного украинства, последних, кстати, большинство, но всё это двигалось в нужном направлении. И задача адекватная была: просто из этой неуправляемой реакции сделать управляемую. Но в итоге сейчас происходит по принципу Чернобыля: надели герметичный чехол, и что-то там под ним кипит и вроде бы контролируется, но на самом деле в любой момент может рвануть. И я, как человек, который понимает эти тенденции и скрытые угрозы, ощущает, какая сила заключена в народном порыве, потому что сам это пережил и отчасти даже возглавил, – прекрасно осознаю, что будет, если это состоится. Что делать тогда? Выгнать казаков с саблями и рубать людей на улицах, как в пятом-седьмом годах? Но если мы себе это позволим, то я буду первым, кто положит оружие и скажет, что за подобное мы точно не боролись. Чтобы этого не допустить, мы сегодня не расшатываем публику, а тыкаем власти в какие-то ее недоработки, потому что каждый день, вы не поверите, я пролистываю почту и читаю сообщения людей – из аграрного сектора, а у нас положение фермеров очень бедственное, от шахтеров и так далее. И сообщения примерно такие: да мы же свои, мы же за Республику, но зачем же с нами так? Приезжает какой-то хлыщ, который еще неизвестно где был в четырнадцатом году, и начинает строить людей, иной раз с матюками. И вот люди, которые верили, чувствуют, что на них перестали обращать внимание. За последние четыре часа вот поступило – шахтеры пишут: соседняя шахта им. Скочинского за тридцать метров проходки получает двадцать пять тысяч, у нас при норме восемьдесят метров предлагают шестнадцать. То есть норма выше в два с половиной раза, а оплата почти вдвое ниже. И нам даже не говорят, что мы эти деньги получим в полном объеме! Или вот – забрали шахту, национализировали. Поставлена задача выработать всю лаву, а проходку делать дальше не собираются. А ведь эти процессы синхронны: ты вырабатываешь лаву – и одновременно делаешь проходку, задел на будущее, но, когда ты ее делаешь, ты вкладываешь, а не получаешь, там пустая порода выходит, не продаваемая. А если ты проходку не делаешь, то мало того, что завтра добывать будет нечего, ты еще и нарушаешь технологический цикл, не говоря о том, что шахта взрывоопасная и это попросту нарушение техники безопасности. А шахтеры ведь небезразличные люди, им даже не столько деньги важны, а то, что будет с шахтой завтра. И виноваты-то кто? Отдельные конкретные исполнители, которых нахватали по принципу лояльности, но у которых нет ни малейшего представления о том, что с людьми нужно работать как с живыми вообще-то, что люди имеют свое сознание, притязания, представления о том, как правильно… А они думают, что достаточно сослаться на распоряжение сверху, и все должны взять под козырек. Но это же тебе не военная уже организация, это гражданские структуры, гражданское общество, и у каждого шахтера ведь есть семья, близкие друзья, которые перенимают настроение, возникающее в его трудовом коллективе…