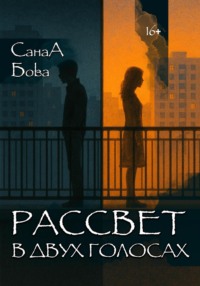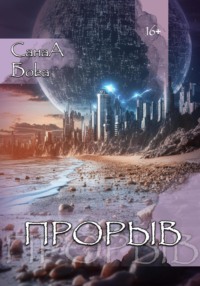Полная версия
Он остановился на пороге и оглянулся ещё раз: окно по‑прежнему дышало золотыми нитями, печь держала тишину, травы молчали, и всё это вместе выглядело не заброшенным и не страшным, а сосредоточенным. Он понял, что вышел на ту грань, когда «вход» завершён, а «видение» ещё не началось. И что следующая вещь, которую покажет этот дом, будет не предмет, а отношение – как дом себе выбирает человека, а человек – дом. Он едва заметно улыбнулся и шепнул, даже не ртом, а дыханием:
– Спасибо.
И изба, кажется, кивнула ему, не тенью, не звуком, а тем едва уловимым внутренним изменением, на которое способна только живая вещь, когда принимает жест. Он перешагнул порог, и туман снаружи мягко, но настойчиво притянул его к себе, как вода притягивает ладонь: выйди – и снова войдёшь. Он прикрыл дверь так, чтобы щель осталась – тонкий, приветственный просвет, и, прихватив плечом прохладу утра, отошёл в сторону, оставляя за собой затаившееся «внутри». Уже на тропе, оглянувшись, он понял, что свет внутри стал плотнее, – значит, дом тоже смотрит. «Ладно, – сказал он. – До скорого». И медленно, не нарушая шагом ткань осевшего тумана, пошёл вдоль вала туда, где то ли его ждала следующая линия света, то ли то самое первое видение, которое ещё только учится произноситься.
Туман стлался низко, уплотняясь у подножия вала, и Михаил, спускаясь по пологому склону, вдруг ощутил, что его шаги не просто оставляют следы на влажной траве, а будто приглушают саму ткань утреннего звука. Где-то наверху, за спиной, изба ещё держала на нём взгляд, не тяжёлый, но ощутимый, как если бы кто-то провожал молча, не делая шага за тобой. Он не оборачивался сразу, потому что знал, что есть взгляд, который нужно оставить за спиной, иначе он станет зеркалом, а в зеркало в таких местах лучше не смотреть.
У подножия вала трава была выше и гуще, чем на верхушке, и местами влажные колосья ложились под весом капель, словно кто-то прошёл здесь до него, неся на себе туман. Он провёл рукой по стеблям, пальцы тут же стали мокрыми, и эта прохлада напомнила о детстве, о той утренней росе, впитывавшейся в босые ноги, когда бежишь за деревенский околок, думая, что поймаешь солнце раньше всех.
Слева, на краю поля, чернели силуэты ещё двух изб, почти слившихся с линией вала. Михаил задержал шаг, прислушиваясь, но вокруг была только ровная тишина. И тут, из этой равнины звука, вдруг родился мягкий, очень короткий шорох – не то трава коснулась травы, не то ткань задела дерево. Он прищурился, пытаясь различить движение, но туман не выдавал тайного, он шевелился равномерно, будто бы всё пространство дышало одним лёгким.
– Опять ты ходишь, – тихо сказал голос справа.
Он обернулся и увидел старуху в длинной, выцветшей кофте, перехваченной верёвкой, с платком, завязанным так туго, что лоб выглядел высоким, почти строгим. Она стояла, опираясь на кривую палку, и смотрела на него прищуром человека, который видит сразу глубже и дальше, чем ты готов.
– Гляжу, всё проверяешь, – добавила она, и в её голосе было не осуждение, а почти лукавое удовлетворение, словно она знала, что он всё равно вернётся.
– Работа у меня такая, – ответил он, чуть улыбнувшись, хотя улыбка вышла скорее вежливой, чем настоящей. – Записывать, обмерять.
– Обмерять, – повторила она, как будто пробуя это слово на вкус. – А если оно не даётся в меру?
Вопрос был не праздный, и Михаил понял, что это не о размере стен. Он кивнул, принимая игру.
– Тогда остаётся запомнить.
– Запомнить, – снова повторила она и чуть качнула головой, будто проверяя, как это слово ложится в её память. – Запомнишь ли ты, милок, что тут не стены держат, а то, что между ними?
Он хотел было уточнить, но она уже пошла вдоль вала, шаг за шагом, так медленно, что туман вокруг казался неподвижным. Михаил смотрел ей вслед, пока её силуэт не растворился в белизне, и только тогда заметил, что под ногами в траве лежит что-то тёмное, обмотанное тряпицей. Присев, он коснулся находки – узелок был лёгким, но твёрдым на ощупь, внутри явно что-то круглое.
Разворачивать здесь он не стал. Опыт подсказывал, что некоторые вещи лучше открывать там, где есть стены и свет, а не на сырой траве у подножия вала, пока дом за спиной ещё помнит твоё дыхание. Он поднялся, зажал узелок под локтем и пошёл дальше, к следующей избе, чувствуя, как с каждым шагом плотность воздуха меняется, словно каждая из девяти изб имеет свой собственный, невидимый климат.
Внутри избы воздух стоял тяжёлый, но не затхлый, в нём было что-то иное, как если бы стены держали в себе дыхание всех, кто когда-то здесь жил, спал, шептал. Михаил вошёл осторожно, прикрыв дверь за собой, и дал глазам привыкнуть к свету, точнее, к его отсутствию. Сквозь льняные занавеси на окнах солнце просачивалось не пятнами, а тонкими золотистыми жилами, и казалось, что само пространство внутри соткано из этих редких нитей.
Его взгляд зацепился за балку, тянущуюся поперёк комнаты. На ней, вырезанная с удивительной тщательностью, извивалась змея. Она была не просто декоративным узором – каждая чешуйка, каждая складка тела были вырезаны так, что казалось, если проведёшь пальцем, то почувствуешь подушечки и хребет. Змея сворачивалась в кольцо, прижимая хвост к пасти, и в этом замкнутом круге была та сила, которую Михаил невольно уважал – символ, в котором нет ни начала, ни конца, а значит, нет выхода.
Он подошёл ближе, поднял руку и почти коснулся резьбы. Доска под его пальцами оказалась неожиданно холодной, не просто прохладной от тени, а такой, будто внутри неё нет древесной теплоты, будто это вовсе не дерево, а камень, который пролежал века в воде. Он отдёрнул руку, хотя в движении не было страха, скорее уважение, похожее на то, что испытываешь перед предметами, которые хранят в себе чужую, но не утраченную жизнь.
Он кивнул, понимая, что это не просто резьба для красоты, и что такие вещи не ставят в домах случайно.
Михаил сделал шаг вперёд, и старые доски отозвались глухим, но нераздражающим скрипом, будто признали в нём гостя, которому пока можно доверить тишину дома. Он опустил взгляд и заметил, что пыль на полу лежит не сплошным слоем, а разорвана чёткими отпечатками босых ног. Следы были свежие, как будто кто-то прошёл здесь совсем недавно, и даже не пытался их скрыть. Пятки чуть вдавлены, пальцы расставлены – шаги неторопливые, но уверенные, направленные к дальнему углу, где у стены в ряд стояли глиняные горшки.
Он медленно пошёл по этому следу, и каждый шаг отзывался в воздухе каким-то особенным звуком, не столько слышимым, сколько чувствуемым кожей. Воздух будто становился плотнее там, где следы были особенно чёткими, и это странное давление не имело ни источника, ни объяснения. Михаил осторожно присел у стены, глядя на горшки: грубые, местами с трещинами, но ни один не был покрыт пылью, что само по себе странно для дома, где, казалось бы, никто не живёт.
Он потянулся к ближайшему, и пальцы на мгновение задержались на краю холодной, чуть влажной глины. Горшок оказался тяжелее, чем он ожидал, и, когда он сдвинул его, доски пола под ним застонали, открывая тонкую, едва заметную щель. Из этой щели, как из рта, тянуло холодом – не сквозняком, а особым холодом, как бывает под землёй, где воздух неподвижен и древен. В запахе было что-то сладковато-прелое, как от старой травы, пролежавшей в темноте несколько сезонов, и вкрадчиво-горькое, как дым от полусгоревшей травяной связки.
Михаил наклонился ближе, вслушиваясь. Из щели доносился ритмичный звук – тихий, едва различимый, но настолько упорядоченный, что его нельзя было принять за случайный скрип дерева или капание воды. Это было похоже на биение сердца – глухое, размеренное, с какой-то собственной логикой, как будто внизу жила сущность, не спешащая и не нуждающаяся в свете. Он задержал дыхание, пытаясь уловить нюансы звука, и вдруг понял, что на краю этого ритма едва заметно, почти неслышно, пробивается мелодия – женский напев, такой тихий, что слова в нём растворялись, оставляя только дрожащую нить мотива.
Стоя у стены, Михаил пытался убедить себя, что странный ритм, исходящий из-под пола, – всего лишь иллюзия, игра воображения, усиленная тишиной старого дома. Но чем дольше он вслушивался, тем сильнее убеждался, что там, внизу, существует нечто, живущее по своим законам и не нуждающееся в зрителях. Биение – глухое, размеренное вдруг переплелось с тонким дрожащим звуком, похожим на дыхание, которое переходит в мелодию. И эта мелодия была пугающе знакома.
Сначала он подумал, что ему кажется. Мотив был едва уловим, словно пел кто-то, прижимая ладонь к губам, чтобы звук не вышел наружу. Но с каждой секундой песня становилась отчётливее, набирая странную, почти завораживающую силу. Она текла, как ручей, проходящий под землёй – слышишь его, но не видишь, и лишь по изменению звука камней догадываешься о его глубине.
Это была купальская песня. Михаил вспомнил её не по словам, их он всё ещё не мог разобрать, а по ритму, по переливам, по той древней, ещё дохристианской интонации, где каждый звук был не просто частью мелодии, а заклинанием. Когда он был ребёнком, в его родном городе устраивали фольклорные фестивали, и однажды, в летний вечер, он слышал, как женщины в длинных сарафанах водили хоровод вокруг костра, напевая что-то похожее. Тогда ему показалось, что в этих голосах есть что-то запретное, как будто он случайно подслушал разговор, адресованный не людям, а чему-то большему.
Здесь же, в этой глухой избе, песня звучала так, словно она не прерывалась веками, просто иногда становилась тише, уходя глубоко в землю, чтобы вновь подняться, когда к ней склонится ухо чужака.
Он присел на корточки, осторожно прижимая ладонь к полу. Дерево было холодным, но не мёртвым, наоборот, оно отдавало лёгкой, но ощутимой вибрацией, и эта дрожь совпадала с ритмом напева. Михаил поймал себя на странном желании постучать в ответ, словно проверяя, отзовётся ли кто-то из темноты.
Он даже поднял руку, но тут же замер, осознав, что не знает, что именно может отозваться. Песня изменилась, в ней появилась низкая, почти басовая нота, и теперь она уже не была женской в привычном понимании. Это был многоголосый хор, в котором то и дело проступали голоса, не похожие на человеческие – слишком глубокие, слишком тягучие.
Михаил вдруг вспомнил слова из старого этнографического сборника, который он читал в университете: «Голос земли – это не просто эхо. Это дыхание тех, кто в ней остался». Тогда он посмеялся над романтизмом старых авторов. Сейчас же смех казался невозможным.
Он выпрямился, но звук продолжал держать его, словно невидимая нить тянулась от пола к его груди. Михаил закрыл глаза и представил, что под ним – не пустота, не подвальное пространство, а огромная каменная зала, заполненная холодным светом, в центре которой стоят женщины с длинными косами, опущенными до самой земли, и поют, глядя вверх, сквозь толщу почвы.
В тот момент он почти поверил, что, если снять доски, он увидит их. Но вместе с этим пришло и другое ощущение – что они и так его видят, даже сквозь землю, и их взгляд куда острее любого луча света.
Он не успел оторваться от пола, когда дверь за его спиной тихо, но протяжно скрипнула. Звук этот был резкий, слишком земной на фоне зыбкого напева из-под пола, и оттого ударил по нервам сильнее, чем должен был. Михаил резко выпрямился и обернулся.
В проёме стояла Агафья. В руках у неё был тяжёлый кувшин молока, холодного, с мелкими пузырьками на поверхности. Она держала его без видимых усилий, но так, будто кувшин – это не просто еда, а часть какого-то обряда, который нельзя прервать.
– Трогал? – спросила она без приветствия, и взгляд её был направлен не на него, а на печь, где сидела кукла.
– Что? – он попытался сохранить спокойствие, но тон его вышел чуть выше обычного.
– Куклу, – уточнила она, переводя взгляд на него. – Трогал?
Михаил замялся всего на миг, но всё же покачал головой.
– Нет.
Она кивнула, но в этом кивке не было одобрения, только констатация: значит, пока ещё не нарушил.
– Хорошо, – сказала она тихо, но так, что в её голосе слышалось не облегчение, а приказ самому себе – запомнить этот момент. – Её нельзя тревожить. Пока она молчит.
Он хотел спросить, кто «она» – кукла или кто-то, поющий под землёй, но не стал. Было чувство, что вопрос не только останется без ответа, но и сделает что-то ненужное явным.
Агафья поставила кувшин на стол, рядом с ним положила кусок чёрного хлеба и, не садясь, обошла комнату. Её взгляд не задерживался на мелочах, но каждое движение головы, каждый шаг были словно проверкой: всё ли на месте, всё ли в тишине. Когда она проходила мимо Михаила, он уловил лёгкий запах – смесь полыни, печного дыма и чего-то смолистого, как от старой свечи.
Она снова остановилась у печи, склонившись к кукле. И тут Михаил понял, что её взгляд, не просто осмотр, а прямой контакт. Агафья смотрела так, будто перед ней стоял живой человек, с которым она разговаривает без слов. И в этом молчаливом разговоре было что-то странно обоюдное, он почувствовал, как воздух в избе становится плотнее, и сам поймал себя на том, что задержал дыхание.
– Спит, – наконец сказала она, не отрывая взгляда. – И пусть спит.
Потом медленно выпрямилась и подошла к двери. Перед самым уходом бросила через плечо:
– Закрой за собой. И сюда больше не заходи без моего слова. Пока солнце в зените, они спят, но ты ведь архитектор, должен знать, что есть дома, которые строили не для жизни.
Она не ушла сразу. Уже взявшись за дверную скобу, Агафья, словно передумав, обернулась и посмотрела на него. Это был не взгляд, подаренный ради вежливости, а тот, после которого понимаешь – сейчас скажут что-то, чего лучше было бы не знать, но отказаться уже нельзя.
– Ты думаешь, это просто тряпки и нитки? – её голос звучал тихо, но в нём была та тяжесть, которая вытягивает из человека внимание, как мороз – тепло из пальцев. – У нас в каждой избе своя кукла. Но не простая. Волосы у них настоящие. Не парики, не конский хвост. Настоящие. И принадлежат они тем, чьё сердце ещё бьётся, только не в груди.
Михаил, не сразу поняв, что она имеет в виду, всё же почувствовал, как слова задели в нём что-то хрупкое.
– Сердце? – повторил он. – Вы хотите сказать…
– Я не хочу ничего сказать, – перебила она резко. – Я тебе говорю, как есть. В каждом доме – своя сестра. Девять их было, и каждая оставила волосы здесь. Чтоб дух не распался и не ушёл в землю.
Она сделала шаг к печи, и её пальцы коснулись косы куклы. Тонкая, почти невидимая дрожь пробежала по этим прядям, и Михаилу показалось, что коса стала чуть тяжелее, как живая.
– Волос, он же не умирает, – продолжала она, не глядя на него. – Он растёт, даже когда в теле уже тишина. Он помнит всё, что видел глаз, слышало ухо. Потому и держат их здесь, перевязанные красной шерстью, чтоб не перепутались и не потянулись туда, где им не место.
– А если… – он запнулся, подбирая слова, – если отрезать?
Она посмотрела на него так, что он пожалел, что спросил.
– Тогда земля выпустит то, что под ней. Не быстро, не сразу, но выпустит. И уже никто не удержит.
Она говорила это без угрозы, но оттого страшнее, как о дожде, который всё равно пойдёт. Михаил почувствовал, как в груди шевельнулось то же чувство, что и утром в автобусе, когда водитель перекрестился на повороте: смесь суеверного страха и уважения к тому, что ты не понимаешь, но знаешь, что лучше не трогать.
Агафья выпрямилась, поправила платок, и на мгновение в её глазах мелькнуло что-то почти мягкое.
– Люди думают, что смерть – это когда сердце перестаёт биться, – сказала она, уже открывая дверь. – А у нас знают: смерть – это когда волос высохнет.
Он ещё долго стоял, вглядываясь в вышитый солнцеворот, пока не понял, что смотрит уже не глазами, а чем-то более глубинным, отзывающимся глухим эхом под рёбрами.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.