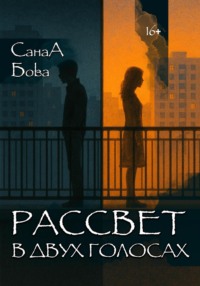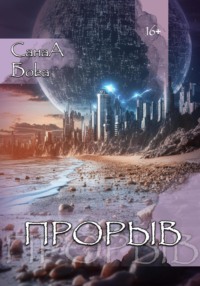Полная версия
Но внутри слова отозвались иначе: не просто.
Он постоял ещё минуту, разглядывая дверь и наличники с вырезанными змеями, чьи тела были сплетены в узор, как две косы. Узор был гладким, отполированным ладонями, и Михаил подумал, что, может, те, кто приходил сюда с хлебом и молоком, гладили эти резные змеиные тела, как знак приветствия или просьбы.
Солнце уже уходило за вал, и свет лег на крышу дома мягкой, золотой полосой. Михаил медленно повернулся и пошёл дальше по тропе, но всё время, пока он отходил, у него не исчезало ощущение, что за дверью, в тёмной глубине, кто-то стоит и смотрит в ту же замочную скважину, только с обратной стороны.
Михаил уже собирался свернуть к тропе, ведущей к середине кольца, когда справа, за кустами таволги, послышался быстрый шорох и лёгкий смех. Через мгновение на узкой дорожке выскочили двое мальчишек – босоногие, в коротких холщовых рубашках, с венками из свежего зверобоя на плечах и в руках. Они бежали наперегонки, и от их движения трава расходилась, как вода, оставляя за ними шлейф пряного запаха.
Первый, чуть выше ростом, пронёсся мимо, едва взглянув на Михаила, но второй, обгоняя товарища, вдруг резко притормозил прямо перед ним, так что венок в его руках слегка качнулся. Лицо у мальчишки было смуглое, глаза тёмные и быстрые, как у сороки, заметившей что-то блестящее.
– Не смотри в окна, – выпалил он, глядя прямо в глаза Михаилу. – А то позовут.
Михаил моргнул, не сразу уловив, в чём именно здесь предупреждение, а в чём угроза.
– Кто позовёт? – спросил он, стараясь, чтобы голос звучал спокойно.
Мальчик оглянулся через плечо, будто проверяя, не слушает ли кто, и чуть тише, но всё так же резко сказал:
– Те, кто в избе. – И, не дожидаясь новых вопросов, добавил с каким-то детским торжеством, словно бросал ему вызов: – А если ответишь – останешься.
– Останусь? – Михаил едва успел повторить слово. – Где?
Но мальчик уже сорвался с места и побежал следом за первым. Оба скрылись за изгибом вала, и ещё несколько секунд слышался их топот и смех, который казался одновременно обычным, деревенским, и странно звонким, как эхо в пустом помещении.
Михаил постоял, вглядываясь в то место, где они исчезли. Слова «останешься» и «позовут» в его голове почему-то сложились во фразу, которую он не произносил вслух, но чувствовал её как неизбежный смысл: останешься там, откуда не вернёшься.
Он провёл рукой по лицу, отгоняя эту мысль, и пошёл дальше, но теперь каждый дом, на который он смотрел, казался чуть более внимательным к нему, чем раньше.
К вечеру небо над селом стало плотнее, и свет, даже не угасая, словно приглушился, как звук, завёрнутый в ткань. Михаил вернулся в дом Агафьи, где ему отвели маленькую комнату с окном, выходящим на узкую полоску вала. Стены были обшиты потемневшими досками, пахнущими старой смолой, на полу лежал полосатый половик, а у кровати низкая тумба с керосиновой лампой.
Он сел за стол, на котором уже лежал его блокнот, и разложил карандаши, привычный порядок помогал собраться с мыслями. Долго вертел в руках карандаш с мягким грифелем, словно тот мог подсказать, с чего начать. Все обрывки фраз, записанные ранее нужно было переписать в более подробный и связный текст. В конце концов, написал аккуратно, в верхнем углу страницы: День первый. Село под валом.
Слова пошли медленно, но ровно. Он описывал дорогу – лес, сшитый ветвями, молчаливых пассажиров, шёпот водителя: «Чур меня». Потом запах трав у вала, странное тепло земли, резные обереги на дверях. Отдельно отметил встречу с мальчишкой и его слова о том, что «вал держит, чтобы избы не разошлись».
Дальше – женщина в чёрном платке, Агафья, её фраза: «Это не вал, а крышка». Он записал и легенду о девяти сёстрах, добавив на полях: не метафора в её словах, а факт – говорит, будто видела.
Он чертил схему: круг вала, девять точек-домов внутри, линии, соединяющие их. Он не знал почему не стал отмечать другие дома, будто именно эти девять были основой этого места. В центре оставил пустое место. Рука сама выводила мелкие пометки: «резьба – змея», «запах – трава + волосы», «тишина за дверью – вязкая».
Отдельно, почти внизу страницы, он записал слова второго мальчишки: Не смотри в окна, а то позовут. Если ответишь – останешься. Эти фразы он обвёл, как обводят опасный участок на плане здания.
Задержавшись, он посмотрел в окно. Вал в этом свете казался выше, чем днём. Его тень ложилась на крыши изб, и в этой тени было что-то похожее на сплетённые косы, вытянувшиеся по земле. Он перевёл взгляд обратно на блокнот и, не думая, нарисовал длинную косу, вплетённую в круг.
Запах трав, принесённый ветром, проник в комнату, и Михаил вдруг понял, что за всё время, что он здесь, так и не слышал ни одного звука, доносящегося из-за вала – ни шагов, ни голосов, ни даже скрипа дерева. Эта тишина была как прозрачная стена, через которую он пока не имел права пройти.
Он закрыл блокнот, положил карандаш рядом и провёл ладонью по обложке, будто запечатывая всё, что записал.
Солнце медленно оседало за деревья, и свет в окне Михаила стал тяжелее, словно его наливали в комнату густыми, золотисто-мутными слоями. Он поднялся из-за стола, подошёл к окну и отодвинул занавеску. Вал, казавшийся днём просто холмом, теперь менялся на глазах. Его тень ложилась на дома так, что крыши и стены сливались в единый силуэт, похожий на сплетённые между собой косы, распластанные по земле. В сгущающемся сумраке линии этого переплетения были настолько явными, что Михаил не мог отделаться от ощущения, что тень не просто повторяет форму вала, а живёт своей жизнью, медленно ползёт, охватывая избы.
За валом, в полутьме, появилась процессия женщин. Они шли вдоль тропинки, каждая несла в руках кувшин молока и небольшой каравай, завёрнутый в льняную ткань. Платья у всех были однотонные, тёмные, и даже те, кто был молод, двигались с той степенной осторожностью, какая бывает у стариков, когда каждый шаг – как слово в молитве. Ни одна из них не оглядывалась. Михаил заметил, что головы у всех чуть склонены, а взгляд направлен вниз, будто они не хотели видеть ничего вокруг, кроме дороги и того, куда ставят ногу.
Он приоткрыл раму окна, впустив в комнату вечерний воздух. Вместе с прохладой в него проник запах свежего хлеба и молока, смешанный с густым ароматом полыни, поднимавшимся с вала.
Внизу, у крыльца, появилась Агафья. Она не несла ни молока, ни хлеба, но прислонилась к косяку двери, наблюдая за женщинами, и в её позе было что-то настороженное, хотя взгляд оставался спокойным. Михаил вышел в сени, подошёл к ней.
– Куда они? – спросил он, стараясь, чтобы в голосе не было излишнего любопытства.
– К домам под валом, – ответила она, не отводя взгляда от идущих. – Каждая знает, к какому. Это – наш долг.
– Еда? – уточнил он.
– Да, и молоко. Чтоб знали, что мы о них помним. – Она чуть повернула к нему голову. – И чтоб они о нас помнили правильно.
– Что значит «правильно»?
Агафья не сразу ответила. Лишь когда женщины скрылись за поворотом, она сказала тихо:
– Чтобы не позвали не вовремя.
Михаил хотел спросить ещё, но она уже отошла в дом, оставив его стоять на крыльце. Вечер тем временем наполнялся глубоким синим светом, который был не столько тьмой, сколько другой, более тяжёлой версией дня. Где-то вдалеке, за валом, мелькнула тёплая точка, словно на мгновение кто-то зажёг свечу в окне. Но когда он пригляделся, свет исчез, как будто его никогда не было.
Он вернулся в комнату, закрыв за собой дверь, и подумал, что завтра, как только взойдёт солнце, он попробует войти в одну из этих изб. И пусть слова Агафьи и предупреждение мальчишек тянулись за ним, как тихий, но настойчивый шёпот, – что-то внутри уже приняло решение.
Глава 2 – «Первое касание»
Утро пришло не светом, а туманом. Он был густым, тягучим, и стелился не равномерно, а полосами, как будто невидимые руки провели по воздуху широкими гребнями, разделив его на плотные и более прозрачные слои. В этих слоях видимость менялась, словно ты входил из одной реальности в другую, лишь переступив шаг. Всё, что было чуть дальше пяти-шести метров, уже утекало в молочную непроглядность, и Михаил ловил себя на том, что идёт по тропе, будто пробирается сквозь бесконечную череду завес, каждая из которых может скрывать за собой что-то иное, чем привычный мир.
Он держал в руках свой блокнот – привычка архитектора фиксировать всё, даже ощущения, уже стала рефлексом. Сегодня он выбрал избу № 3. Не потому что она выделялась чем-то особенным среди прочих, на первый взгляд, все девять домов под валом казались одинаково сросшимися с землёй, а скорее потому, что вчера вечером, когда он рисовал схему, именно от этой точки в круге у него по спине прошла лёгкая дрожь, как от тихого, но ясного зова.
Тропа вела вдоль внутреннего склона вала, и в густой тишине он слышал только собственные шаги и хруст инея, неожиданно выступившего на траве. Лишь подойдя ближе, Михаил заметил, что земля возле двери избы № 3 темнее, чем у остальных, и мягче, как после недавнего дождя. Он присел и коснулся ладонью, почва чуть влажная, и пальцы легко оставляют след, но никакого запаха сырости нет, наоборот, в воздухе витает терпкая, сухая нота полыни и зверобоя, как будто эти травы пропитали даже землю.
Замок на двери был ржавым, но не запертым. Тяжёлое железное кольцо висело в проёме, и Михаилу показалось, что кто-то специально оставил его так – ни закрытым, ни полностью открытым. Будто дверь ждала того, кто решится войти, и одновременно испытывала его терпение. Он потянул за кольцо, чувствуя шероховатость металла под пальцами. Петли заскрипели низким, чуть дрожащим звуком, и этот скрип показался не механическим, а почти… живым.
Прежде чем толкнуть дверь, он задержался на мгновение. Туман за его спиной сгущался, заволакивая путь обратно, и на миг проскользнула странная мысль – что если за время, пока он будет внутри, весь внешний мир окончательно уйдёт в эту молочную пустоту? Он выдохнул, словно отгоняя нелепое ощущение, и толкнул дверь, которая будто подалась неохотно, как человек, решивший впустить гостя только после долгого колебания.
Тьма встретила его не как пустота, а как материя, тягучая, тёплая, почти ощутимая кожей, будто кто‑то натянул в дверном проёме старый, хорошо выделанный кожух и велел пройти через него медленно, не задерживая дыхание, иначе застрянешь между слоями. В этот миг он ясно понял, что у темноты бывают запахи и возраст: молодая тьма пахнет сыростью, холодной известью, пустым подвалом. Старая – отдаёт воском, травами, молоком, которое кто‑то однажды уронил на пол, и потом больше никогда не вытирал насухо, потому что в таких домах ничего не «убирают», а оставляют жить. Здесь пахло именно так – сушёной полынью, зверобоем, стёртым пчелиным воском и чем‑то сладковато‑прелым, не грязным, нет, как у времени есть собственный настой, который, загустев, хлебают стены.
Он остановился у порога, позволив глазам привыкнуть к полумраку, и сразу поймал странное ощущение, будто воздух внутри старше самого дома. Комнату, казалось, построили вокруг уже готового запаха, вокруг уже готовой тишины, как вокруг чаши – обод и ножку, и стены только подчинились этой первородной смеси, приняв форму того, что здесь было раньше, чем бревно к бревну. Михаил сделал шаг, второй, под ногой заговорили половицы, негромко, но узнаваемо, как ступает ребёнок, пытающийся не разбудить спящих родителей. Этот звук был не скрипом, а ответом – дом отметил его вес, записал в свой тайный, деревянный инвентарь и отступил дальше, позволяя идти.
Окна затягивала льняная ткань, не занавески, именно ткань, приколоченная тонкими гвоздями к раме. Свет входил узкими золотыми нитями, удлиняясь, как тонкая нить мёда на ложке, и, вытянувшись, рвался в нескольких местах, рассеиваясь в воздухе мягкими, почти тёплыми переливами. Эти нити ложились на предметы, вырезая их из тьмы: вот пеньковый шнур, натянутый под потолком, на нём – пучки трав, связанные крестом; вот гнутый ухват у печи; вот горлышки глиняных кувшинов с припёкшейся корочкой молока по краю; вот деревянный ушат у стены, в котором, по всем правилам, уже должна была стоять вода, но там лишь пустота, от которой веяло колодезным холодом. Свет не давал подробностей, а только контуры, и от этого предметы казались чуть важнее, чем в обычном мире, как в чертежах, где линия решает всё.
Он двинулся к печи, не видя её, а угадывая, потому что любой дом, даже самый непохожий, в глубине своей повторяет знакомый порядок: вход, лавка слева или справа, печь в угловой тяжести, стол с короткой тенью, красный угол, если хозяева верующие, а если нет – всё равно какой‑то угол, куда складывают не «иконы», но «иконность». Пальцы пытливо нашли тёплую шершавость кирпича у шестка, печь была не холодной, в ней не догорал огонь, в ней хранилась теплотная память, и Михаил ощутил, как это тепло, едва ощутимое, но ровное, возвращает дыханию размер. «Правильный объём, – машинально отметил архитектор внутри него. – Соотношение высоты к ширине – почти идеал «избового» модуля: низкий потолок надавливает, но не давит, объятие, а не гнёт». Он коснулся ладонью нижнего венца стены, древесина под пальцами была как камень – дубовая плотность, спрессованная веками, и в этом камне жили годовые кольца, которые, кажется, шептали: «Мы всё видели. Мы не уговариваем. Мы держим».
В тишине почуялся мягкий ход воздуха – не сквозняк, не щель, а дыхание дома, из‑под пола что‑то втягивало и выдыхало, очень медленно, почти на грани ощущения. От этой напоминалки о подполе у Михаила коротко дернулось сердце. Древняя память, не связанная ни с профессией, ни с городом, подняла голову: «Под полом – пространство. Всегда. И в этом пространстве – не просто пустота, а мир, который по ночам двигается». Он заставил себя не думать сразу о нижнем ходе, не торопить выводы, сцена ещё не просит разоблачений, сцена требует уважения.
Он замер на середине комнаты, позволяя телу настроиться под акустику. У каждого помещения есть свой голос, который проявляется, если щёлкнуть пальцами, кашлянуть, провести ладонью по ребру стола. Он сделал самое малое – ногтем едва тронул ребро ближайшей лавки. Тонкая нота пошла по доске, уперлась в печь, вернулась от стены, соскользнула под потолок и там, под пятнами копоти, исчезла, как будто её вытянули через невидимую щель. «Поглощающий объём», – отметил он мысленно. – «Тихоеда». Так иногда удачно устроены комнаты в старых домах, в них не задерживаются чужие слова. Дом держит только свои.
У окна висела связка льна, пересушенная до ломкости. Он провёл пальцами по бахроме – тонкие волокна зацепились за кожу, как птичьи язычки, и тут же отпустили. На столе деревянная миска, перевёрнутая вверх дном, он приподнял её и тут же опустил, внутри была не пыль, а сухой, еле уловимый аромат сухоцветов. Словно кто‑то однажды в эту миску собрал июль и не дал августу его съесть. На стене – резной наличник‑полочка, а на нём маленький, в ладонь, крестик, но не церковный, а «домовой»: четыре равных луча, сведённых кругом, солнцеворот, вырезанный некрупно и уверенно. По краю видны следы трогавших пальцев, там, где часто касаются, дерево темнеет и блестит, – значит, к этому знаку прикасались, «здравствовали» с ним. «Система оберегов встроена в мебель», – мимоходом отметил профессионал, и сразу же живой Михаил хмыкнул над собой: «Система – это то, что ты понимаешь. А здесь – то, что тебя понимает».
Он медленно шагнул к дальней стене, которая, по логике, должна «слушать» вход. В полутьме проступил знакомый силуэт – высокий двустворчатый шкаф или, скорее, лавка‑сундук, где держат бельё, полотенца, может быть, травы, которые нельзя вешать открыто. Древняя железная петля врезалась в дерево глубоким ртом, словно его когда‑то крепили «на век», и вот теперь этот век встал у Михаила за плечом. Он наклонился, и по спине пробежал привычный электрический холодок, из‑под створок тянуло тем же «старше дома» воздухом, который он уже почувствовал у порога. Запах был не резким, но явным: воск, подвал, волосы. Про «волосы» он ещё не думал как о «волосах» – думать об этом прямо он позволил себе позже, сейчас это слово стучалось не буквами, а тактильной памятью, как когда‑то, в детстве, когда нашёл в сундуке матери толстую девичью косу, перевязанную лентой, коснулся, и пальцы долго ещё помнили тёплую сухость чужой жизни.
Окно справа, затянутое льном, вдруг ожило, на ткань легла новая золотая нить – солнце продралось через туман, нашло свою щель. Луч лёг на стол, пополз по краю и остановился, упершись в крошечный восковой наплыв, оставшийся на доске, будто здесь ставили свечу, а капля в нужный момент сорвалась и застыла. Он наклонился ближе и увидел в воске отпечаток ногтя. Тот, кто притушивал огонь, делал это неторопливо, почти ласково. Удивительная вещь – видеть чужой жест, оживший в материале. Он почувствовал, как в горле сжалось, не от мистики, а от нежности к точным вещам.
И всё же где‑то внутри него, в глубине под рёбрами, сидел скептик, склонивший голову к планке: «Запахи объяснимы: травы, воск, затхлый воздух без проветривания. Акустика – низкий потолок, массив печи. Дыхание пола – может быть, вентиляционный ход. Не спеши приписывать дому сознание». Он согласился, почти автоматически, и в ту же секунду другая часть, упрямая, деревенская, ответила: «Да, да. Сначала так, потом как выйдет». И обе эти линии мысли не спорили, а шли рядом, как две тропы, ведущие вокруг одного и того же холма.
Он подошёл к углу, где деревянная стойка крепила потолочную балку, и впервые ощутил каменный холод доски. Холод не от погоды и не от сырости, а от того самого «камня», в который превращается вещь, когда её назначение – держать. Балка не просто держала крышу, она держала форму тишины. Михаил приложил ладонь и на миг зажмурился, словно прислушиваясь кожей. Под пальцами промелькнула едва уловимая вибрация, как в метро, когда поезд ещё далеко, но рельсы уже знают. Он отнял руку, и вибрация пропала. «Сам себе дом воображаешь», – проворчал скептик. «А если и так – дом не против», – ответил другой.
Слева от печи – низкая дверца, пожалуй, в кладовку или в подполье, к ней он ещё подойдёт, но пока нет. Его удерживала не столько осторожность, сколько странное чувство такта, как в чужой комнате нельзя сразу открывать шкаф, так и тут нельзя сразу лезть туда, где дом «прячет». Он прошёлся взглядом по потолку, копоть собрала там, где балка встречается с доской, причудливые рисунки, будто кто‑то водил пальцем по сажистой поверхности, чертил знаки, а потом их смыла зима. Но один рисунок всё же остался – круг с отводящейся вбок короткой дорожкой. Не «солнце», не «колесо» – скорее путь. Он отметил его, не карандашом, а глазами: «Здесь любят круги. Везде круги. Круг – и крышка. Круг – и вал. Круг – и тень».
Он присел на лавку, не чтобы отдохнуть, а чтобы посидеть на высоте, где обычно сидят в таких избах – на уровне разговоров. Сидеть важно иначе, чем стоять, позвоночник меняет отношение к тяготению, ты становишься не гостем, а слушателем. На этой высоте запахи стали яснее. К травам и воску добавился лёгкий солоноватый привкус – то ли ручьи в подполе, то ли близость человека, который здесь долго стоял, потел, дышал, уходил и приходил. И ещё сладковатый дух засолённой корки хлеба, которую бережно несут к порогу в длинных полотенцах. Он глубоко вдохнул, и выдох шёл мягко, без усилия.
– Если бы дом был человеком, – сказал он вполголоса, – ты бы был тем, кто помнит за всех. – Голос его прозвучал нахально и нежно одновременно, и он сам усмехнулся: разговаривать с помещением – дурная примета. Но дом не обиделся, половица под левым ботинком отозвалась сухим «угу», как старик, дремлющий у печи: «Ну, говори, говори».
Время двигалось здесь иначе, он понял это, когда луч от окна, который ещё минуту назад упирался в каплю воска, уже полз выше, к краю стола. «Не теряйся во впечатлениях», – напомнил он себе и раскрыл блокнот. Перо, точнее мягкий графит любимого «B», ожило в руке: «Изба № 3. Окна затянуты льном, свет поступает нитями, эффект «надрезов в ткани». Аромат – травы (полынь, зверобой), воск, тёплая прелость. Возраст воздуха – «старше дома» (метафора). Акустика – поглощающая; тишина – «каральная», стоящая». Он усмехнулся слову «каральная», зачеркнул и написал «караульная». Так точнее: здесь караулят, а не карают.
Он встал, прошёлся ещё раз, медленно, как водят ладонью по лицу спящего, чтобы не разбудить. В дальнем углу, почти на уровне пола, он заметил тонкую линию света между бревном и плинтом. Не щель, а знак, что где‑то ниже – полость. Обойти – значит признать. Он обошёл. Кладовая дверца по‑прежнему молчала – чёрный квадрат на тёмной стене, но от неё тянуло стабильным холодом, будто за ней держали не продукты, а ночь. Внутри Михаил почувствовал ожидание, упругое, как жилка под пальцем. «Не сегодня, – сказал он себе. – Ещё один круг – и вернусь».
У красного угла (а он всё‑таки был – маленькая, почти символическая полочка с вышитым рушником и деревянной плашкой, где резьбой повторялся тот же солнцеворот) он остановился, не крестясь, но как бы делая внутри себя поклоны, не религиозные, а этические. Он не пришёл «брать». Он пришёл «видеть». Между этими словами тонкая, но непреодолимая грань. Дом, кажется, это понял, тень от потолочной балки отступила на полшага, и золотая нить от окна на миг коснулась рушника так ярко, что белые нити вспыхнули и сразу погасли.
Он снова сел, на этот раз ближе к печи, и пробормотал:
– Живёшь? – И в ответ где‑то в самом теле печи что‑то тихо хлопнуло – как хлопают ладони, освободившись от муки. «Тепловое расширение», – сухо пояснил скептик. «Ответ», – спокойно сказал другой. Разговор двух его половин казался вдруг не спором, а ремеслом: когда двое работают одним ножом – один ведёт, другой страхует.
Далёкая, но отчётливая нота пришла оттуда, где дверь оставалась приоткрытой – туман, видимо, повёл себя иначе, плотнее. Мир за порогом не исчез, он изменил манеру присутствовать. Снаружи тишина уже была не тишиной, а глухим, мягким давлением – как ладонь, приложенная к стеклу. Внутри, напротив, звуки стали точечнее. Он вдруг услышал то, что раньше не замечал – лёгкий шелест там, где под потолком подвязаны травы; едва‑едва заметный шорох в районе подпечья; отдалённый, как будто сквозь одеяло, свисток ветра в трубе. Всё это вместе создаёт ткань, и он, человек, привыкший к тканям из кирпича и бетона, вдруг ощутил себя не строителем, а ткачом.
Мысль, как это иногда бывает в верном месте, быстро развернулась в философию – маленькую, камерную, не для цитат: «Дом – это не стены и кровля, а договор между тем, кто дышит снаружи, и тем, что дышит внутри. Иногда этот договор подписан на дереве, иногда на тишине. В городе договором управляет комфорт. Здесь – память. И если вал – крышка, то крышка не закрывает, а настраивает дыхание». Он улыбнулся сам себе, чересчур. Но новая улыбка вышла мягче: «Пусть будет чересчур. Сегодня можно».
Он поднялся, нащупал у порога крюк, чтобы притворить дверь полностью, но удержал себя: Степан сказал – «молчи». Агафья – «не трогай, пока не знаешь». И мальчишка вчерашний – «останешься». Эти три реплики встали перед ним как три колышка, между которыми натягивают нитку, чтобы ряд вышел прямее. «Хватит», – сказал он себе мягко. – «Ты уже внутри. Дальше – слушай». И остался стоять посреди комнаты, слегка повернувшись лицом к печи, боком к окну, спиной к двери, так, чтобы ни одно из «отверстий» мира не оказалось у него за плечами без внимания.
В этот момент из‑за льна на окне вылетела пылинка, даже не просто пылинка, а маленький комочек света, и, поймав его глазами, он ощутил детскую радость, настолько простую, что захотелось хмыкнуть и сказаться мальчишкой. Пылинка сделала короткий вираж и легла ему на рукав, а затем исчезла, как исчезают все оптические утешения, но чувство от неё осталось, будто кто‑то сказал: «Да, ты здесь. Мы тоже тут». Он кивнул кому‑то невидимому, да, по‑дурацки, и шагнул было к печи ближе, и в этот самый шаг воздух в избе дрогнул. Не резко, как луг дрогнет, когда ветер ещё не пришёл, а только обещался.
Он остановился и, не торопясь, вернул дыхание в размер комнаты. Тёплый слой воздуха держался ниже, на уровне локтей, выше было прохладнее, почти осенне. «Наслоение, – отметил он. – Туман просачивается внутрь и делает слои». Откуда‑то из‑под пола поднялся нежный аромат прошлогоднего сена, или то, что память называет «сеном» всякий раз, когда в носу сладко и сухо. Он закрыл глаза, чтобы лучше поймать исходящее, и увидел ту самую длинную, беззвучную картину: поле скошено, солнце низко, стога похожи на спящих животных, а над ними дрожит правильный воздух. Он открыл глаза и изба была на месте, и воздух здесь был старше, чем дом, а всё же слушался его лёгких.
«Ещё чуть‑чуть, – сказал он себе. – И хватит». Он почувствовал, как устаёт слух, не от того, что в доме шумно, а от того, что он всё время «на кончиках». В такие моменты человек начинает заменять восприятие фантазией. «Лучше выйти». Он не был трусом, но был дисциплинированным, умение вовремя отступить – тоже ремесло. Он медленно двинулся к двери, и в этот миг, прежде чем перешагнуть порог, украдкой, не от дома, а от себя – коснулся ногтем косяка, оставив крошечную риску. Не метка «я был», не бравада, а просто тактильная ниточка, чтобы вернуться ровно в тот же звук.