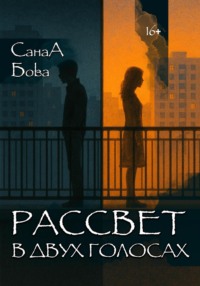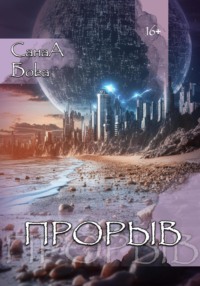Полная версия
– Вал держит, – сказал вдруг рядом голос, и Михаил вздрогнул, потому что не заметил, как кто-то подошёл. Это был парнишка лет четырнадцати, с острым лицом, загорелым до тёмного мёда, в вылинявшей рубашке навыпуск. Он стоял легко, будто вырос на этой тропе и знал каждый камень. – Чтоб избы не разошлись.
– Разошлись? – переспросил Михаил, переводя взгляд с мальчика на вал. – Это как?
– Как нитки в холсте, – пожал плечами тот, – потянешь одну – и всё поедет. А тут держит. – Он кивнул в сторону трав. – Видишь? Это всё не простое. Полынь, зверобой, ещё шептуха растёт, но тебе её не покажут.
– Кто – «они»? – Михаил не успел себя остановить, и вопрос прозвучал почти слишком прямо.
Мальчик чуть прищурился, как делают старики, когда хотят взвесить слова собеседника.
– Те, что остались, – сказал он наконец, как будто отрезал кусок ткани, – они и держат. – И, не объясняя, пошёл вдоль вала, легко и быстро, ступая по траве, которая под его ногами ни разу не скрипнула.
Михаил остался на месте. Его ладонь всё ещё лежала на глине, и теперь он был уверен – вал действительно тёплый. Не просто нагрет солнцем, а дышит теплом, которое идёт изнутри, как идёт из печи даже тогда, когда огонь давно погас. И в этой живой теплоте было что-то тревожное, она не отпускала, не давала отнять руку, словно спрашивала – «насколько всерьёз ты пришёл?»
Он выпрямился и медленно обошёл небольшой участок вала, разглядывая его с разных сторон. На склоне, который смотрел к дороге, трава была гуще, на обратном, обращённом к центру кольца, виднелись странные узоры – то ли старые подмывы дождём, то ли чьи-то нарочно оставленные линии. Они напоминали обрывки рисунков: круги, ломаные линии, что-то вроде солнечных знаков. Михаил достал блокнот, сделал пару набросков, но тут же поймал себя на том, что рука рисует слишком медленно, будто само место не хочет, чтобы его зафиксировали на бумаге.
Он поднял глаза и огляделся, вал был высоким, метра три в высоту, и уходил кольцом туда, где его перекрывали кроны деревьев. Михаил подумал, что, будь у него вертолёт, он бы увидел идеальный круг, но отсюда этот круг ощущался как замкнутая, упругая петля, в которой нет ни начала, ни конца. И тут его словно ударила мысль: что если этот вал не просто ограждает, а действительно «держит»? Держит не дома, не землю, а то, что живёт внутри.
Он медленно вдохнул запахи, теперь в них добавилось что-то ещё, тонкое, как сухой шёпот бумаги. Аромат был едва уловим, но пронзительно острый, и Михаил не мог понять, то ли это цветы, то ли… волосы. Сухие, старые, забытые волосы, которые хранили в себе тепло тела, но давно уже не были частью человека.
– Это вал, – сказал он вслух, больше себе, чем кому-то, но в этом слове почувствовал странную тяжесть. – Или крышка.
Слово «крышка» повисло в воздухе, и от него стало прохладно, будто тень от облака скользнула по траве. Михаил знал, что дальше придётся подходить ближе, но что-то в нём – то ли осторожность, то ли старый инстинкт предложило пока обойти вал по периметру, прислушаться, принюхаться, запомнить каждый его изгиб.
Он сделал первый шаг вдоль пологого склона, и трава под ногами зашуршала тихо, как если бы чьи-то косы, сплетённые в толстую прядь, коснулись его щиколотки.
Вал шёл вдоль тропы, тяжёлый, как застывшая волна, и каждый шаг вдоль него напоминал Михаилу движение по ребру чьей-то спины, где позвонки – это едва заметные бугры, скрытые под слоем травы. Он чувствовал, что форма этого холма не случайна, её когда-то лепили с намерением, с рукой, знавшей не чертёж, а живую анатомию земли. Глина, покрытая полынью и зверобоем, держалась не просто как почва, она была плотной, спрессованной, как будто её поднимали из глубины и укладывали обратно, слой за слоем, в ритуальной последовательности.
Чем дальше он шёл, тем сильнее ощущал – вал живёт. Это не было мистическим озарением или фантазией уставшего ума, дыхание вала чувствовалось почти физически, едва заметное колебание под ногами, словно где-то глубоко внизу перекатывалось тепло. Михаил машинально замедлил шаг, прислушался. Никаких звуков: ни птиц, ни насекомых, только густая неподвижность воздуха, в котором каждая травинка стояла на своём месте, как страж.
Он остановился у небольшого выступа, глина здесь выглядела более тёмной, и сквозь неё пробивался тонкий корень. Михаил присел и провёл пальцами по корню. Он был странно жёстким, с шероховатой поверхностью, и на ощупь больше напоминал волос, чем растение. Память тут же подбросила ему одну из городских байек о том, как в старых домах находят замурованные косы, оставленные в стенах «на счастье» или «от сглаза». Но здесь, под валом, эта ассоциация прозвучала тревожнее.
– Не трогай, – донёсся голос за спиной.
Михаил резко обернулся. На тропе, всего в нескольких шагах от него, стоял тот же деревенский мальчишка, говоривший о том, что «вал держит». Он держал в руках венок из зверобоя, но теперь трава в нём была смята, как будто её сжимали слишком крепко.
– Почему? – спросил Михаил, уже зная, что ответ вряд ли будет прямым.
– Потому что это не корень, – сказал мальчик, глядя в сторону, будто избегал встречи глазами. – Это волосы.
– Волосы? Чьи?
– Тех, кто остался. – Он произнёс это без нажима, как простую констатацию, и повернулся, чтобы идти дальше вдоль вала. – Не рви, а то всё развяжется.
Мальчик исчез за поворотом, оставив Михаила наедине с мыслью, которая зацепилась за внутренний слух, как репей за одежду: «волосы тех, кто остался». Остался где? Под валом? В домах? Или… в самой земле?
Он поднялся, но пальцы всё ещё помнили жёсткость «корня». Слово «волосы» вдруг запустило целую цепочку образов – женщины в сарафанах, на мгновение мелькнувших на валу, тени, которые он списал на игру света, запах сухих трав, в котором проскальзывала тонкая, едва уловимая нота человеческого тепла, давно остывшего.
Продолжая обходить вал, Михаил заметил, что дома действительно стоят как будто «внутри» него – крыши низкие, скаты плавно сливаются с землёй, так что издалека избы кажутся частью холма. Между ними почти нет пространства, и всё это напоминает не поселение, а единый организм, в котором дома – это кости, а вал – кожа, удерживающая их в форме.
Он достал блокнот и, опершись коленом о землю, стал набрасывать схему: круг, девять отметок внутри, линии, соединяющие их. Но рука то и дело возвращалась к обводке самого вала, и чем больше он вглядывался, тем отчётливее понимал – оберег, символ, кольцо, замкнутость здесь важнее, чем сами дома.
На одном из участков он заметил, что травы растут гуще и выше, а запах их сильнее, чем в других местах. Михаил подошёл ближе и увидел, что земля здесь чуть просела, образуя неглубокую впадину. В её центре торчал деревянный кол, весь изрезанный резьбой: птицы с раскинутыми крыльями, солнцевороты, змеи, переплетённые в сложные узоры.
Он провёл пальцами по резьбе. Линии были глубокие, но гладкие от времени, как будто их шлифовали не руками, а ветром и дождём. И тут он ощутил, что в какой-то момент палец скользнул по надрезу, в котором лежала тонкая нить, не из дерева и не из травы. Он отдёрнул руку и понял, что это снова был волос. Человеческий. Сухой, выцветший, но целый.
– Это не вал, – пробормотал он себе под нос. – Это действительно крышка.
Ветер, налетевший откуда-то сбоку, качнул траву, и на миг ему показалось, что она двинулась не в одну сторону, а будто кто-то внутри толкнул её снизу. Михаил отступил на шаг, не из страха, а из уважения, как отступают в церкви, чтобы не мешать.
Дальше тропа снова свернула, и он почувствовал, что обошёл примерно четверть кольца. Впереди уже виднелись крыши первых изб, вросших в землю, но пока он не собирался подходить ближе. Ему хотелось сначала закончить обход, понять форму и дыхание этого холма, прежде чем войти внутрь.
Вал продолжал идти с ним, как спутник, и с каждым шагом Михаил чувствовал, что он не просто идёт вдоль земли, он идёт вдоль границы, за которой начинается что-то, не терпящее прямых вопросов.
И именно в этот момент, когда он уже привык к однообразию глины, трав и тишины, за его спиной раздался хруст – не ветка, не камень под ногой, а что-то более вязкое, словно земля подалась под весом. Михаил обернулся, но там никого не было. Лишь на валу, в густой полыни, медленно опустился и исчез в траве женский силуэт.
Он стоял ещё долго, пока в груди не отпустило ощущение, что на него смотрят изнутри.
Михаил ещё несколько раз обвёл взглядом холм, всё так же заросший полынью и зверобоем, но теперь, после разговора с мальчишкой, видел его иначе – каждая травинка казалась вросшей не только корнями в землю, но и в чью-то историю, в чьё-то тело.
Он сделал шаг вперёд, намереваясь осмотреть один из домов, крыша которого почти сливалась с верхом вала. И в этот момент в краю зрения что-то мягко шевельнулось. Михаил обернулся, быстро, но не резко, чтобы не спугнуть, если это был человек. На верхнем гребне вала, в колыхающейся от ветра траве, стояли три женские фигуры в длинных сарафанах, с косами, переброшенными вперёд. Ткань их одежды была густого, немодного цвета, будто выварена в травах, и с каждой секунды казалось всё явственнее, что эти женщины смотрят не просто в его сторону, а прямо на него, через него, как на того, кто пришёл слишком близко.
Он не знал, как долго длился этот миг. Может, всего секунду. Может, дольше. Но ощущение, что их взгляды касаются его плеч и груди, было почти физическим. И только он успел подумать – «подойти? заговорить?», как моргнул, и верх вала снова оказался пуст. Лишь трава колыхалась так, будто там прошёл кто-то, оставив после себя невидимую дорожку.
Михаил стоял, вглядываясь в это место, пока сердце не начало биться ровнее. Он попытался списать увиденное на усталость, на игру света и ветра, на склонность глаза дорисовывать силуэты там, где движется трава. Но что-то внутри – та часть, которая не занимается отчётами и планами реставраций твёрдо знало: это были не тени.
Внизу, у подножия вала, один из домов будто отозвался на его мысль – скрипнуло, простонало, как стонет старое дерево в ночном ветре. Михаил замер. Скрип повторился – низкий, глухой, словно внутри дома что-то сдвинулось, перетянулось по полу. Он сделал пару шагов ближе и прислушался. Дом был старый, бревенчатый, с крышей, утонувшей в траве, с потемневшими ставнями, на которых резьба когда-то изображала солнце, но теперь почти стёрлась.
Михаил осторожно коснулся дверного косяка. Дерево было сухим, шероховатым, но под этой сухостью чувствовалась странная, упругая сила, как будто бревно до сих пор жило. Он нагнулся и попытался заглянуть в замочную скважину. Внутри сплошная тьма, плотная, без малейшего отблеска. И вдруг, вместе с этой тьмой, на него хлынул запах – густой, вязкий, словно кто-то перемешал сушёные травы с чем-то тёплым, животным. В этой смеси полынь и зверобой были узнаваемы, но за ними проступало другое – прелый, еле уловимый запах волос, давно отрезанных и высушенных.
Михаил инстинктивно отстранился, выпрямился и огляделся. Вал был всё так же неподвижен, трава тихо шевелилась, но ощущение, что за ним наблюдают, никуда не исчезло. Он шагнул назад, стараясь идти медленно, чтобы не выдать спешки.
– Показалось, – сказал он себе вслух, но голос прозвучал так, будто он не до конца в это верил.
Тишина вокруг приняла его слова, но не ответила, и от этого казалось, что сама земля ждёт, что он сделает дальше. Михаил ещё раз посмотрел на дом, затем на вал и решил пока оставить это место в покое, вернуться сюда днём, когда свет заполнит тьму за дверью.
Он двинулся вдоль вала к следующему участку, стараясь не оглядываться. Но всё время, пока он шёл, у него было ощущение, что на гребне вала снова стоят женские фигуры и провожают его взглядом.
Он как раз собирался свернуть к узкой тропке, ведущей к дому у самого подножия вала, когда сбоку, из-за поворота, вышла женщина. Появилась она так тихо, будто всё это время стояла в двух шагах, просто место не решалось её показать. Чёрный платок плотно обтягивал голову, лишь на висках выбивались тонкие, серебряные, как утренний иней, пряди. Лицо было крепкое, с прямыми, чуть суровыми чертами, но не сухое, в нём была та особая деревенская полнота, которая не от еды, а от долгой, упорной жизни в одном и том же ритме, где труд и тишина делят поровну каждый день.
Она остановилась в паре шагов от него и, не торопясь, скользнула взглядом по его фигуре, не как люди смотрят на приезжего, а как хозяйка проверяет, не занесено ли с улицы что-то ненужное. Её взгляд задержался на рюкзаке, потом на руках, потом на ботинках, в которых уже прилипла пыль от тропы.
– Ты к кому? – спросила она без приветствия.
– Михаил, архитектор, – он поднял руку, чуть кивнув, как будто представлялся на совещании. – Приехал обследовать дома для реставрации.
Она нахмурилась, но не от недовольства, скорее от того, что слово «реставрация» показалось ей слишком длинным для здешнего воздуха.
– Дома тут… – она вздохнула и опустила глаза, – не больные. Чего в них лечить-то?
– Иногда нужно просто укрепить, – спокойно ответил он. – Сохранить то, что есть.
– Сохранить, – повторила она, словно пробуя вкус слова. – Оно и так сохранено. – Она кивнула в сторону вала. – Видишь? Это не вал. Это крышка.
Михаил поднял глаза на холм, понимая, что именно это слово уже звучало в его мыслях.
– Крышка чего?
Она не ответила сразу. Молчала так, будто выбирала, какой именно кусок правды можно отломить для чужака, чтобы он не подавился.
– Крышка того, что спит, – сказала она наконец. – Долго спит. И пусть бы спало дальше.
– А что, если проснётся? – Михаил задал вопрос почти автоматически, но в тот же миг почувствовал, как вокруг сгущается воздух.
Она посмотрела на него прямо, и в её взгляде не было ни страха, ни гнева, только ясность.
– Не твоё дело что будет, если. Твоё – не лезь туда, куда своих не тянет.
– Но я приехал…
– Приехал – значит, уже тянешься, – перебила она. – И это плохо.
Они стояли в тишине, которую нарушал только ветер, перебирая траву на валу. Михаил почувствовал, что эта женщина – не просто жительница деревни, а один из тех узлов, на которых держится местная ткань. И разговаривать с ней надо так же осторожно, как обходить старый колодец, где вода тёмная, но чистая, если не тронуть дно.
– Я остановлюсь здесь, – сказал он. – У меня есть распоряжение…
– Распоряжение у тебя в бумагах, а тут распоряжение у травы, – отрезала она. – Я Агафья. Если хочешь пожить – комнату дам. Но за вал не ходи, пока не узнаешь, что там.
– А кто расскажет?
– Никто. – Она вдруг улыбнулась уголком рта, но эта улыбка была без веселья. – Или все.
Она развернулась и пошла обратно той же тропой, откуда вышла, и Михаил, чуть помедлив, последовал за ней. Ветер у вала стих, как будто их разговор его успокоил, но изнутри холма всё ещё шла та едва ощутимая, тёплая дрожь.
Они шли молча, и Михаил чувствовал, что молчание здесь имеет плотность, почти вес. Оно не было неловким, скорее, это была форма дыхания деревни, способ держать чужого на безопасной дистанции, пока не решено, пустить ли его ближе. Узкая тропка вела мимо редких кустов шиповника, чьи бледно-розовые лепестки уже осыпались на траву, и вдоль кривых изгородей, сложенных из потемневших жердей. Из-за поворота показался дом Агафьи – высокий, с резными наличниками, но краска на них облупилась, и всё строение было как старый человек: видно, что сильный в прошлом, но теперь держится на упорстве, а не на силе.
Агафья провела его внутрь, низкая дверь заставила Михаила пригнуться. В сенях пахло сушёными травами, и этот запах, густой и почти сладкий, смешивался с дымком от печи. Она жестом показала на лавку у стены.
– Садись. – Сама она осталась стоять, упершись ладонями в край стола, и какое-то время просто смотрела на него так, словно в этом взгляде решалось, будет ли разговор. – Ты про вал хочешь знать?
– Я хочу знать про всё, что поможет мне понять, как устроено село, – осторожно ответил Михаил. – И если вы скажете, что знать мне это не нужно – я приму.
Она усмехнулась, но в этом не было насмешки, скорее, что-то вроде уважения за умение обойтись без нажима.
– Ладно. – Она сняла с головы платок, встряхнула косу, в которой ещё оставалась сила. – Слушай, а там уж сам решай, что тебе с этим делать.
Она подошла к печи, поправила чугунок, и, не поворачиваясь, начала:
– Было это, когда чума по земле шла. Не та, что в книгах пишут, а другая как туман, только внутри человека. Пришла в эти места тихо, как тень за спиной. Умирали быстро, по целым дворам. И вот тогда в нашем селе жили девять сестёр. Все знахарки, все разные, но кровь одна. Старшая – травница, вторая – повитуха, третья – заговаривала от укусов, четвёртая – от глаз дурных. Были и такие, что с ветром говорили, и такие, что с водой ладили.
Она повернулась к нему, опершись бедром о стол, и глаза её чуть сузились.
– Они собрались вместе, когда поняли, что смерть идёт. Собрались в самый разгар Ивана Купалы. Сказали людям: «Уходите. Оставьте село нам. Мы останемся». Люди ушли, кто в леса, кто в соседние деревни. А сёстры заперлись в своих избах. Каждый дом – как клетка, каждый – на своём месте.
Михаил слушал, и перед глазами вставала картина: тёплая ночь, костры на берегу, голоса, смех, и девять женщин, стоявших в круге, держат друг друга за руки, а над ними звёзды, и ветер, пахнущий зверобоем, уже несёт в себе привкус холода.
– Говорят, – продолжила Агафья, – что они сделали обет. Что не выйдут, пока чума не пройдёт. И не вышли. Когда люди вернулись – избы стояли, как и прежде, только в окнах – тьма. Двери были закрыты, но из-под порогов росла трава, которой раньше там не было. Полынь, зверобой, да ещё такие, что только в заговорах встречаются. Люди поняли, что сестры под землёй. И вал – это не просто земля. Это волосы их выросли сквозь почву, стали корнями трав, что теперь держат заразу внизу.
Михаил почувствовал, как внутри что-то дрогнуло. Его архитекторский ум привычно искал рациональное объяснение – символ, метафору, но в словах Агафьи было слишком много той особой прямоты, которая не нуждается в доказательствах.
– С тех пор, – сказала она, – никто не рвёт этих трав. Особенно на Купалу. Приносят им хлеб, молоко, ставят на пороге, чтобы помнили, что мы их не забыли.
– А кто-то пробовал… нарушить? – спросил он тихо.
– Пробовали, – кивнула она. – Молодые, да чужие. И все ушли. Не знаю, ушли ли далеко, но назад никто не возвращался.
Она замолчала, разлила по чашкам крепкий, пахнущий дымком чай, и поставила одну перед ним.
– Ты хотел знать – теперь знаешь. Только помни, что здесь всё связано. И если потянешь за одну нитку – весь узор поедет.
Михаил обхватил чашку ладонями и понял, что это первый за день момент, когда ему стало по-настоящему тепло. Но вместе с теплом в нём уже поселилось что-то другое – тонкая, упругая нить тревоги, которая тянулась к валу.
Чай был крепкий, с горчинкой полыни и лёгким дымным шлейфом, и пока Михаил пил, он уже знал, что следующим шагом станет обход вала. Не потому что хотел нарушить предостережения, напротив, ему хотелось увидеть, потрогать, понять, что именно удерживает эту границу.
Агафья, словно почувствовав его намерение, посмотрела поверх чашки и сказала тихо, без упрёка, но с таким оттенком, что каждое слово оставляло след:
– Если пойдёшь смотреть, смотри глазами, а не руками. И запоминай не только то, что видно.
Он кивнул, и через несколько минут уже стоял на тропе, ведущей обратно к валу. Воздух за ночь почти не изменился, всё тот же насыщенный аромат трав, в котором зверобой отдавал солнцем, полынь – горечью, а где-то в глубине сквозил тот странный запах сушёных волос, от которого у него мурашки шли по спине.
Вал с этой стороны выглядел так, будто его подрезали понизу, оставив гладкий, чуть покатый склон. Михаил начал обход, отмечая в блокноте детали: линии, где трава меняла цвет, участки, где почва была темнее, отдельные камни, явно положенные не случайно. Почти на каждой двери, ведущей в дом, вросший в землю, он видел резьбу. Птицы с распахнутыми крыльями, солнцевороты, змеи, переплетённые в кольца.
Один дом особенно привлёк его внимание. Крыша его была настолько заросшей, что казалась частью склона, и только резной наличник над дверью выдавал человеческое вмешательство. На нём были вырезаны два круга – внутренний и внешний соединённые тонкими линиями, и Михаил поймал себя на мысли, что этот рисунок почти повторяет схему, которую он машинально нарисовал в блокноте едва приехал.
Он присел у двери и провёл пальцами по резьбе. Дерево было сухим, но плотным, и в некоторых углублениях застряли крошки трав. Сильнее нагнувшись, он заметил, что на нижней перекладине наличника закреплён тонкий жгут, сплетённый из чего-то тёмного и блестящего. Он потянулся было рассмотреть поближе, но тут вспомнил слова мальчишки о «волосах тех, кто остался» и осторожно убрал руку.
Продолжая обход, он видел, как дома словно срастаются с валом, стены плавно уходят в землю, крыши утопают в зелени, и это слияние не выглядит запущенностью. Наоборот, в нём чувствовалось продуманное, намеренное решение. Архитектор в нём видел необычный тип укрепления, как будто строили не на земле, а в теле чего-то большего, чем просто холм.
Он останавливался у каждого дома, делал пометки, но чем дольше шёл, тем меньше эти записи походили на сухие описания. Вместо привычных «состояние кровли удовлетворительное» или «следы гниения в нижних венцах» в блокноте появлялись слова вроде «дверь как запор», «крыша – продолжение дыхания вала», «оберег врезан глубоко, как шрам».
На северной стороне вала он заметил, что трава здесь темнее, а зверобой редеет, уступая место каким-то серо-зелёным стеблям с мелкими тёмными цветами. Запах был резче, чем в других местах, и Михаил почти физически почувствовал, что здесь «узел» сильнее. Он остановился, сделал несколько шагов вбок и увидел, что у самой земли в траве вкопан камень с выдолбленным в нём кругом. Внутри круга лежали крошки хлеба и что-то белое, похожее на молочный налёт.
Он не стал трогать находку, лишь отметил её в блокноте и тихо, неосознанно, сказал:
– Изнутри кормят…
Ветер шевельнул траву, и это движение показалось ему ответом.
Закончив круг, он вернулся к начальной точке, и вал снова предстал перед ним как единая, связная конструкция. Не просто ограда, а что-то живое, впитавшее в себя и дома, и травы, и, возможно, саму память о девяти сёстрах.
В его голове теперь было больше вопросов, чем ответов, но в одном он был уверен, что если здесь что-то и держат, то держат крепко.
На западной стороне кольца, где солнце уже клонилось к обрыву деревьев, Михаил подошёл к одной из изб, которая сразу показалась ему особенной. Она была чуть ниже остальных, и крыша её, утопшая в вал, казалась частью общей линии холма. Дверь тёмного дерева, потрескавшаяся от времени, была заперта на старый, кованый, как замок в сундуке, засов. Но главное было не в этом, изба словно впитывала свет вокруг.
Он остановился в шаге от порога и прислушался. Сначала слышал только собственное дыхание, редкий шорох травы, ветер вдалеке. Потом понял, что за дверью нет ничего, даже пустоты. Это было то особое отсутствие звука, которое встречается только в двух местах: в глубине земли и в старой церкви, где стены настолько напитаны временем, что само время перестаёт течь.
Он наклонился к двери, прислонил ладонь к дереву. Доски были холодными, но этот холод шёл не от зимы и не от тени, а от чего-то глубже, изнутри. Михаил прислонился ухом и услышал тишину, не привычную, не городскую, а вязкую, как тёплый мёд, только без сладости. Эта тишина не пустовала, она стояла, как караул.
И вдруг, где-то из глубины, донёсся тихий, глухой перестук. Будто что-то деревянное упало на пол и покатилось, слегка подпрыгивая на досках. Михаил замер, прислушиваясь, и успел уловить ещё два удара, похожих на то, как переворачивается деревянная кукла или падает катушка ниток.
Он отпрянул, оглянулся на вал – тихо. Потом наклонился к замочной скважине. Внутри была тьма, плотная, как ткань, натянутая вплотную к глазу. Но вместе с этой тьмой из отверстия вырвался запах – густой, сухой, как смесь целого лета, высушенного в одной комнате: полынь, зверобой, сушёный мятлик. И под этой травяной горечью проступало что-то другое – слабый, но отчётливый запах старых, человеческих волос, лежавших слишком долго без света.
Михаил отпрянул снова, но не из страха, скорее из уважения. Ему казалось, что в доме кто-то есть. Не в прямом смысле, не человек из плоти, но чьё-то присутствие стояло внутри, точно так же, как стояла тишина, и оба они держали замок закрытым не хуже любого засовa.
Он сделал шаг назад и тихо сказал себе:
– Просто ветер. Просто старое дерево.