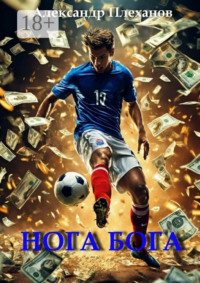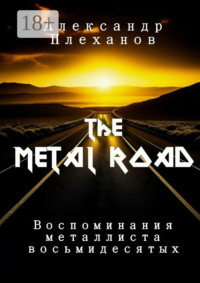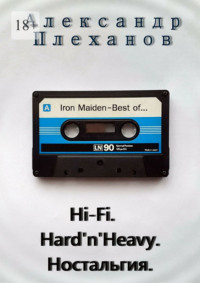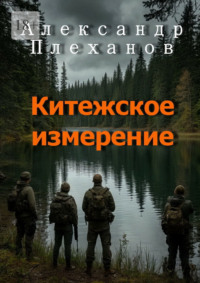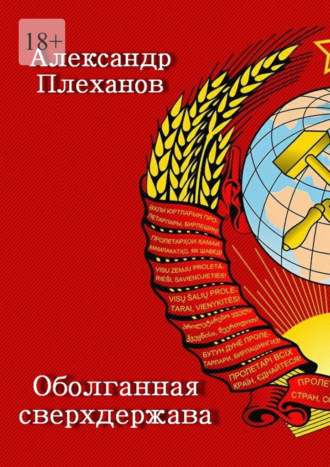
Полная версия
Оболганная сверхдержава
Вот почему в апреле 1941 года, после двух военных конфликтов и масштабной советской помощи Китаю, в Москву приехал министр иностранных дел Японии Сукэ Мацуока. Да не просто приехал, а заключил 13 апреля 1941 года жизненно важный для СССР договор о нейтралитете. Где черным по белому было написано, что в случае войны против одной из сторон другая сторона занимает строго нейтральную позицию. Грубо говоря, Сталин и Молотов этим договором ликвидировали, тогда ещё гипотетическую, вероятность войны на два фронта. Именно этот договор спас страну осенью 1941 года, когда война стала реальностью и под Москву прибыли полнокровные кадровые дивизии из Сибири и Дальнего Востока. Как известно, эти дивизии внесли весомый вклад в разгром немцев под Москвой и поставили точку в блицкриге. Гитлер буквально подавился этими дивизиями, которые, как кость, застряли у него поперек горла. Вермахт готовился маршировать по Красной площади, но кончилось всё контрнаступлением Красной Армии и откатом линии фронта на 100—170 километров на запад.
Если уж называть вещи своими именами, то советско-японский договор о нейтралитете, ратифицированный 25 апреля 1941 года, фактически спас Советский Союз от военной катастрофы. Начни японцы войну против СССР осенью 1941 года, тем более видя успехи своего союзника Гитлера, то СССР не спасло бы даже чудо. У него банально не хватило бы ни сил, ни ресурсов для войны на два фронта против объединенной гитлеровской Европы и тихоокеанской сверхдержавы Японии.
Можно предположить, что уже весной 1942 года всё было бы кончено и советскому правительству пришлось бы подписывать капитуляцию. Не исключено, что СССР вообще перестал бы существовать. Сложно сказать, насколько советско-японский договор о нейтралитете удержал Японию от войны с СССР, но дело в том, что этот договор был также нужен и ей самой. В начале 1941 года партия войны в японском правительстве решила начать агрессию не против СССР, а расширить зону своего влияния в Юго-Восточной Азии. Именно этот регион, а не советский Дальний Восток и Сибирь, представлял для японцев интерес в экономическом отношении. Юго-Восточная Азия была богата столь необходимыми японцам ресурсами – нефтью, каучуком, металлами. Всем тем, чего не хватало японской промышленности и без чего она буквально задыхалась. Именно этим объясняется тот факт, что на определенном этапе позиции СССР и Японии совпали и из вчерашних врагов обе страны очень быстро превратились если не в друзей, то в благожелательно настроенных «нейтралов». Вы занимайтесь чем хотите, нам до этого нет никакого дела, мы к вам не лезем, но и вы нас не трогайте. Вот о чем договорились Молотов и Мацуока в Москве 13 апреля 1941 года.
Это был несомненный успех советской дипломатии, свидетельством чего служит крайне негативная оценка этого договора в США. Которые ввели против СССР санкции, до того их задел этот договор. Отметим особо – Америка на тот момент во Второй мировой войне не участвовала. Наоборот, она поддерживала едва ли не дружеские отношения с гитлеровским рейхом, снабжая его через Испанию и Португалию нефтепродуктами, поддерживая на плаву принадлежащую General Motors компанию Оpel, подпитывая Германию финансами и передавая технологии. Но как только СССР заключил мирный договор с Японией, американцы ввели санкции. Хотя, спрашивается, какое им дело касательно внешней политики СССР? Но видать Сталин наступил на чью-то очень больную мозоль, раз дело дошло до санкций.
Подписание договора с Японией было крайне негативно воспринято и в Китае. Китайцы даже говорили об «ударе в спину», хотя советское правительство сделало то, что просто обязано было сделать – снять напряженность на своей дальневосточной границе. Особенно с учетом идущей второй год европейской войны. Сталин, в отличие от Горбачева и Ельцина, не верил никаким заверениям о вечном мире и дружбе и поэтому поступал так, как и должен поступать каждый умный и дальновидный руководитель страны. Он максимально использовал возможности дипломатии, вот почему весной 1941 года имел на руках важные договоры с двумя самыми проблемными странами. В случае с Германией войну удалось лишь отсрочить, зато в случае с Японией её удалось избежать, причем в самый сложный момент в истории существования страны.
Вот поэтому про договор Молотова-Мацуоки никто не вопит, как об очередном сговоре с врагом. Потому что все прекрасно понимают, что СССР в строгом соответствии с международными законами заключил очень выгодный для себя договор. Это бесспорно мастерский ход советской дипломатии, который настолько безупречен, что его даже глупо обсуждать. Никому в мире не нравился этот договор – ни врагам, ни союзникам. Но все прикусили язык, наблюдая за выдающейся дипломатической победой СССР.
Точно такой же победой на дипломатическом фронте был и советско-германский договор о ненападении, но антисоветчики всех мастей продолжают истерично выть, называя СССР союзником Гитлера, прекрасно зная, что Советский Союз не входил ни в один из союзов с Германией, Италией или Японией, не подписывал Берлинский пакт, поэтому просто по определению не мог быть ничьим союзником из вышеназванных стран. Ни в одном документе за период 1939 – 1941 годов нет не то что строчки, а даже буквы, фиксирующей советско-германские взаимные военные обязательства. Имеются в виду не поставки техники – немцы нам продавали некоторые образцы оружия – а именно союзные обязательства. Если что и подписал СССР помимо Договора о ненападении с Германией, так это ещё торговый, крайне выгодный для нас договор.
Но разного рода антисоветским историкам, выдающим себя за «беспристрастных» экспертов, это неважно. Их цель – максимально облить грязью предвоенную политику СССР и повесить собак на советское руководство, обвинив его во всех смертных грехах. Они никогда не признают преступлением беловежскую пьянку 1991 года, в результате которой был уничтожен СССР и были исковерканы жизни десятков миллионов людей, никогда не расскажут, о чем болтали в бане Борис с «другом Рю», но зато до одури будут врать про «союзника» Гитлера – СССР.
Даже идеальный во всех отношениях договор Молотова-Мацуоки, кстати, снявший все вопросы по северному Сахалину, преподносится ими как очередное сталинское паскудство. Доверчивого и честнейшего самурая Мацуоку подло напоили в Москве проклятые коммунисты, а изверг Сталин лично грузил бесчувственное тело японского министра в поезд. До чего же это всё омерзительно, то ли дело переговоры в бане двух цивилизованных джентльменов, Бориса и Рю, когда, видимо, обсуждалась пресловутая курильская «проблема».
Договор Молотова-Мацуоки, как и договор Молотова-Риббентропа, в любой другой стране считался бы выдающимся достижением дипломатии. Подписать такие договоры с двумя крайне враждебными странами – это многого стоит. К сожалению, с горбачевских времён им дается совсем другая, крайне тенденциозная, оценка. Впрочем, это не отменяет выдающихся предвоенных успехов советской дипломатии.
21 июня 1941 года – последний мирный день
Этот день стал последним для существовавшего тогда мирового порядка, после которого История сделала резкий зигзаг, приведший к кардинальному переустройству мира.
22 июня навсегда стал черным днем не только советской, но и тысячелетней истории России. Именно в этот день началось очередное нашествие представителей «прогрессивной» Европы на «варварскую и отсталую» Россию, носившую тогда имя СССР. Что же происходило в последние часы перед тем, как на западной границе СССР началось невиданное по своим масштабам вторжение?
Когда Сталина обвиняют в неготовности к отражению гитлеровской агрессии, обвинять его надо в первую очередь в том, что он оказался бóльшим европейцем, чем сами европейцы. Если, конечно, понимать под термином «европейцы» культурные нации, придерживающиеся ранее взятые на себя обязательств и соблюдающие международное право.
Разумеется, Сталин прекрасно видел подготовку Германии к войне, но его фатальная ошибка заключалась в том, что он до конца не верил в возможность внезапного нападения. Ведь только недавно СССР и Германия заключили Договор о ненападении, укрепили его взаимовыгодным торговым соглашением, между двумя странами были налажены хорошие контакты практически на всех уровнях, особых разногласий не возникало, поэтому Сталин справедливо полагал, что вместо того, чтобы начинать войну с такой огромной и сильной страной как СССР, Германия могла бы решить все проблемы за столом переговоров. Или хотя бы для начала предъявить претензии. Тем более, что статья 5 Договора о ненападении гласила: «В случае возникновения споров или конфликтов между Договаривающимися Сторонами по вопросам того или иного рода, обе стороны будут разрешать эти споры и конфликты исключительно мирным путем в порядке дружественного обмена мнениями или в нужных случаях путем создания комиссий по урегулированию конфликта».
Сам Сталин так и сделал бы, достаточно вспомнить советско-финскую войну и сколько накануне неё было проведено переговоров и выдвинуто предложений финской стороне. Но Гитлер решил напасть внезапно, без предъявления даже надуманных претензий, хотя накануне войны советское правительство неоднократно показывало Германии готовность решать любые проблемы мирным путём. Вот и вечером 21 июня В. Молотов принял германского посла В. фон Шуленбурга и поинтересовался: чем вызваны множественные нарушения советской границы немецкими самолетами и чем, собственно, недовольна немецкая сторона, на что указывает ряд моментов? Добавив, что советская сторона не понимает причины охлаждения отношений и была бы признательна, если бы фон Шуленбург озвучил претензии, если таковые имеются. Разумеется, внятного ответа Молотов не дождался, и это неудивительно – через считанные часы ему опять придется встретиться с фон Шуленбургом, который уведомит его о начале войны между Германией и СССР.
21 июня вермахтом был получен кодовый сигнал «Дортмунд», после которого процесс вторжения стал необратимым. В тот же день фюрер выступил с обращением к германскому народу, в котором объяснил начало войны против СССР не просто «защитой отдельных стран, а защитой всей Европы». Защищать Европу Гитлеру приходится, якобы, из-за вероломства Москвы, которая подписывает мирные договоры, но при этом активно готовится к агрессии. Так что зря некоторые «историки» превозносят до небес беглого предателя Резуна за его «гениальный взгляд» на причины гитлеровского нашествия – Резун лишь повторил слова Гитлера.
Правда, это категоричное утверждение о готовящейся советской агрессии опровергает Г. Гудериан, который 21 июня находился в передовых частях вермахта, завершающих последние приготовления к переходу советской границы. «Тщательное наблюдение за русскими убеждало меня в том, что они ничего не подозревают о наших намерениях», написал Гудериан в своих мемуарах, вспоминая последние часы перед вторжением. «Во дворе крепости Бреста, который просматривался с наших наблюдательных пунктов, под звуки оркестра они проводили развод караулов. Береговые укрепления вдоль Западного Буга не были заняты русскими войсками. Работы по укреплению берега едва ли хоть сколько-нибудь продвинулись вперед за последние недели».
Гудериан с солдатской прямотой честно описал то, что видел – не изготовившуюся к агрессии Красную Армию, о чем упорно твердит уже не одно десятилетие Резун, повторяя Гитлера, а армию мирного времени, с оркестром занимающуюся разведением караулов.
В качестве доказательства советской агрессии Резун описывает какие-то горы снарядов и сапог, сваленных на границе, но на самом деле в приграничных городах 21 июня вовсю выступали артисты: в Брестском театре был концерт артистов московской эстрады, а в расположенном в 45 километрах Кобрине выступал Белорусский театр оперетты. Всего через сутки артисты этих театров будут отступать вместе с частями Красной Армии и многие погибнут под бомбежками.
Не странно ли посылать артистов туда, где намечается масштабное наступление Красной Армии? Что-то сложно припомнить, чтобы накануне контрудара под Москвой и Сталинградом артисты Большого и Малого театров выступали в прифронтовой полосе. Да и летом 1944 года, накануне начала операции «Багратион», артисты московской эстрады также не выступали в Белоруссии. А знаете почему они там не выступали? А какой бы идиот их туда отправил? Кто бы взял на себя ответственность в непростое время отправить артистов в зону проведения военной операции стратегического масштаба? В сталинскую эпоху таких кретинов не было.
Но вернемся в последние часы перед переломом Истории.
Около семи часов вечера 21 июня, по специальному номеру позвонил сотрудник немецкого посольства в Москве, работавший на советскую разведку, Герхард Кегель (псевдоним «Курт») и сообщил, что из Берлина получено указание уничтожить все секретные документы. «Это война», прямо сказал Кегель.
21 июня около 9 часов вечера советскую границу перешел немецкий ефрейтор Альфред Лисков, сдался пограничникам и на допросе назвал точное время начала войны. К его показаниям отнеслись весьма серьезно – командующий Киевским Особым округом генерал М. П. Кирпонос доложил о перебежчике в Генеральный штаб, но времени для принятия решений уже не оставалось.
Примерно с полудня 21 июня практически на всем протяжении границы фиксировался шум моторов танков и тягачей. Были отмечены и другие настораживающие моменты. Так, командующий 3-й Армией генерал В. И. Кузнецов доложил в штаб Западного военного округа о том, что проволочные заграждения вдоль границы у дороги Августов, Сейны, бывшие в наличии ещё днём, к вечеру сняты. Повышенную активность немцев отмечали и летчики, наблюдавшие по ту сторону границы движение воинских частей, которое ранее им наблюдать не приходилось.
21 июня в порту Риги все немецкие торговые корабли, даже находящиеся под погрузкой, спешно снимаются с якоря и спешат покинуть порт, вызывая недоумение портового начальства, которое запрашивает «компетентные органы», что бы это могло означать? Ответ на свой вопрос портовое начальство получит всего через несколько часов и не от компетентных органов, а от двух десятков «юнкерсов», которые около 15 часов 22 июня разбомбят Спилвский аэродром и уничтожат находящиеся там самолеты и цистерны с топливом.
За несколько часов до начала войны базирующиеся в финских портах немецкие минные заградители начнут ставить мины в Финском заливе. Первая постановка начнется в 21 час 40 минут 21 июня, а последняя уже на рассвете 22 июня. Впоследствии на этих минах погибнет немало кораблей как Балтийского флота, так и гражданских судов. То есть Германия и Финляндия, предоставившая свои базы немецким кораблям, фактически начнут боевые действия против СССР уже вечером 21 июня, за несколько часов до того, как Вячеслав Молотов примет германского посла фон Шуленбурга, который его официально уведомит и состоянии войны между Германией и СССР.
Тут можно вспомнить пару моментов. Вроде как есть данные, что фон Шуленбург чуть ли не трясся от испуга при передаче, как это принято называть на языке дипломатии, Declaration of war, то есть акта начала войны и что Молотову он даже сказал, что сам он лично считает решение фюрера ошибочным.
Скорее всего, всё это полная чушь. Немцы шли нас завоевывать и убивать, педантично, как свойственно их нации, просчитав все риски сотни раз. В грядущей победе они не сомневались, да и какие были причины для сомнений? Тотальное экономическое и людское превосходство, двухлетний опыт ведения боевых действий, причем опыт ведения блицкрига.
В тот же день советскую границу начали переходить диверсанты полка особого назначения «Бранденбург». Одетые в советскую форму русские эмигранты, прибалты, украинцы и прочие хорошо говорящие по-русски диверсанты через несколько часов начнут устраивать диверсии, уничтожать линии связи, захватывать мосты и другие важные транспортные узлы. Именно диверсанты «Бранденбурга» помогут частям немецкой 17-й армии захватить на следующий день пограничный город Перемышль.
В 22 часа 21 июня немецкая авиация получила приказ о полной боевой готовности: на всех расположенных вдоль границы аэродромах на бомбардировщики со свастиками начали подвешивать бомбы, которые через несколько часов посыпятся на мирные советские города и другие объекты. Готовились увеличивать свой боевой счет многие немецкие асы, воевавшие с советскими летчиками ещё в Испании. К боям готовились майор В. Шеллман (26 побед), Г. Бретнютц (34 победы), командир авиагруппы 8/JG3 В. Штанге и его коллега, командир авиагруппы II/KG51 М. Штадельмайер. Эта прославленная четверка «гитлеровских соколов» вечером 21 июня не подозревала, что вместо железных крестов их ожидают кресты березовые – ни один из них не переживет первый день войны, и все четверо погибнут в воздушных боях с советскими истребителями через несколько часов.
Пока на немецкие бомбардировщики подвешивали бомбы и заправляли горючим танки, больше миллиона молодых советских людей праздновали окончание школы. Выпускные вечера прошли накануне, 20 июня, и празднования продолжались и на следующий день: пляжи, волейбол, танцы, первые поцелуи и огромные планы на жизнь, которые меньше чем через полсуток перечеркнет австрийский ефрейтор, которому понадобилось жизненное пространство на Востоке. И который будет массово уничтожать и молодых людей, и их родственников только за то, что они это пространство занимают, и за то, что по мнению фюрера, они расово неполноценные.
21 июня 1941 года дебютировала на сцене Московского театра оперетты будущая мегазвезда отечественного балета Майя Плисецкая. Но вместо карьерного взлета её ожидала эвакуация в Свердловск, и только два года спустя она опять смогла выйти на сцену. И если карьера М. Плисецкой все же состоялась, то другим повезло меньше. Никто не знает и никогда уже не узнает, сколько сотен тысяч молодых советских людей не стали учеными, врачами, педагогами, писателями, режиссерами, спортсменами, артистами, а легли в братские могилы от Бреста до Берлина. Но вечером 21 июня никто из них не подозревал, как круто изменится их жизнь буквально через несколько часов.
Утром 21 июня членам правительства был представлен предсерийный экземпляр системы залпового огня БМ-13, будущей «Катюши». Вряд ли кто из присутствующих мог предположить, что это инновационное оружие даст первый залп по реальному врагу менее чем через месяц, да всего в 510 километрах от Москвы, под Оршей. И что именно РСЗО БМ-13 впоследствии назовут оружием Победы.
К середине дня 21 июня ощущение надвигающейся беды уже отчетливо витало в воздухе, хотя о масштабах грядущей катастрофы не догадывались даже в Кремле. По свидетельству начальника Генерального штаба Г. К. Жукова, на его предложение срочно отправить в войска директиву о приведении приграничных округов в боевую готовность Сталин ответил следующее: «Может быть вопрос ещё уладится МИРНЫМ путём. Войска приграничных округов не должны поддаваться ни на какие провокации, чтобы не вызвать осложнений». Понятно, что Сталину очень не хотелось давать Гитлеру casus belli – повод для начала войны, и он до последнего надеялся, что Германия будет соблюдать хоть какие-то нормы международного права. Особенно с учетом подписанного менее двух лет назад Договора о ненападении, Статья 1 которого гласила: «Обе Договаривающиеся Стороны обязуются воздерживаться от всякого насилия, от всякого агрессивного действия и всякого нападения в отношении друг друга как отдельно, так и совместно с другими державами».
Однако Гитлер не считал нападение на СССР вероломным, употребив такой нейтральный термин, как «фактор внезапности». Но как ни маскируй гитлеровскую агрессию, она была во всех отношениях ничем иным, как вероломным нападением. О чем красноречиво свидетельствуют минные постановки в Финском заливе и переход диверсантов полка «Бранденбург» советской границы ещё 21 июня, до официального объявления войны.
Сталин директиву все же подписал, и она ушла в войска в 00 часов 30 минут 22 июня, но ни на что повлиять она уже не могла. Армия – не гоночный автомобиль, который может резво рвануть с места и за пару секунд разогнаться до 100 км/ч. Чтобы привести гигантский армейский организм в состояние полной боевой готовности, требовались многие часы, которых уже не было. Впрочем, даже если бы директива ушла в войска на сутки раньше, это также ничего не изменило бы. Возможно, немцы встретили бы лишь чуть более сильное сопротивление утром 22 июня, да потери не были бы такими катастрофическими.
Причина заключалась в том, что Красная армия, в отличие от вермахта, не была полностью отмобилизована и боеготова, вот почему с первых часов войны она вынуждена была действовать, подстраиваясь под противника, не владея стратегической инициативой. Переводя на боксерскую терминологию, вермахт с первых секунд «боя» утвердился в центре ринга и наносил нокаутирующие удары, которые Красная армия в жутких условиях дезорганизации и потери управления пыталась парировать. По большей части безуспешно.
Как бы то ни было, день 21 июня 1941 года стал последним днем существовавшего мирового порядка. После перехода вермахтом советской границы начнется другая эпоха, начнется отсчет времени до краха нацисткой Германии и её союзников, СССР начнет свой долгий и тяжелый путь к статусу мировой сверхдержавы, реальностью станет закат Британской империи и возвышение США, на долгие десятилетия кардинально изменится политическая карта Европы, да и мира, значительная часть которой будет окрашена в красный цвет.
21 июня 1941 года – это тот день, когда История сделала очень крутой поворот, навсегда изменивший мир и человечество. Не получи вермахт сигнал «Дортмунд» – всё было бы иначе, но… получилось так, как получилось: 350-миллионный гитлеровский Евросоюз отправился в поход на Восток, целью которого было уничтожение 190-миллионного Советского Союза.
21 июня 1941 года многим казалось, что шансов у вчерашней лапотной России устоять в схватке с промышленно развитой и более многолюдной Европой нет никаких. Но наши предки совершили невиданный в мировой истории подвиг, масштабы которого поражают и по сей день, и закончили войну в Берлине. Но это будет только в мае 1945 года, а 21 июня 1941 года советскому народу предстояло пережить жуткие и кровавые 1418 дней войны – самой страшной войны за всю тысячелетнюю историю России.
И тем омерзительнее выглядят слова некоторых «историков» сказанных в постперестроечные годы – Сталин не успел напасть на Гитлера, воевали не умением, а числом, Сталин нападение проспал, Красная Армия к войне была не готова, в атаку ходили с одной винтовкой на троих и тд.
22 июня 1941 года. Вставай, страна огромная
Когда разного рода исследователи говорят, что летом 1941 года СССР пережил разгром, они, мягко говоря, лукавят. А если же называть вещи своими именами – то нагло врут. Причем врут, начиная даже с утверждения о том, что на СССР напала Германия. Хотя если посмотреть на состав гитлеровской коалиции, то выяснится, что СССР воевал против всей Европы, за исключением Англии и Ирландии и нейтральных стран.
22 июня и в течение ближайшей недели в поход на Восток отправился не только гитлеровский вермахт, но и войска Венгрии, Италии, Румынии, Австрии, Словакии, Финляндии, Испании, плюс к этому в боях против Красной Армии приняли участие хорватские, голландские, французские, бельгийские, датские и шведские добровольческие формирования. Ни с одной другой страной Гитлер не воевал, имея столько союзников и не сосредоточив столько сил.
Достаточно посмотреть на национальный состав пленных после окончания войны, где помимо наших прямых противников немцев, румын, итальянцев и венгров мы увидим 70 000 чехословаков, 60 000 поляков, 23 000 французов, 14 000 молдаван, 4 700 голландцев и даже 10 000 евреев. И это только те, кто попали в плен.
Но подсчетом пленных занялись уже после войны, а тогда, 22 июня 1941 года для всех пришло страшное осознание свершившегося факта – Гитлер ударил первым, ударил вероломно и страна столкнулась с таким противником, какого не встречала с нашествия Батыя. Как все мы знаем, ударов вермахта – гораздо более слабых – до этого не выдерживал никто. Польская армия оказалась на грани поражения меньше чем через десять дней войны. Англо-французы продержались чуть более месяца, после чего гордые сыны Альбиона драпанули на свой остров, а французы дружно переквалифицировались в пацифистов, объявив Париж открытым городом. Датчане, бельгийцы и голландцы вообще сражались не столько с Гитлером, сколько за него. Греки и югославы также не вынесли первого удара, как и норвежцы. Ни одна из стран, даже такая мощная в военном отношении, как Франция, да ещё с союзниками, да ещё и с полностью отмобилизованной армией, не продержались против Гитлера, используя боксерскую терминология, и раунда. В июне-июле 1941 года казалось, что и Красная Армия пребывает в состоянии тяжелого нокдауна, за которым последует нокаут.
Однако уже 23 июня 99-я стрелковая дивизия при поддержке пограничников выбила немцев из Перемышля и удерживала город до 27 июня. Таким образом, Перемышль стал первым советским городом освобожденным от захватчиков в ходе Великой Отечественной войны. 30 августа командующий Резервным фронтов Г. К. Жуков провел Ельнинскую операцию, отбросив с ельнинского выступа дивизии 4-й армии под командованием Г. фон Клюге. В декабре ещё более сильный удар Красная Армия нанесла под Москвой, а затем, в январе 1942 года немцы узнали всю прелесть сидения в «котлах» – под Демянском и в Холме. Ничего подобного вермахт не встречал во время победного марша по Европе.