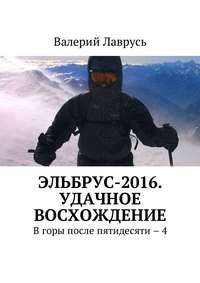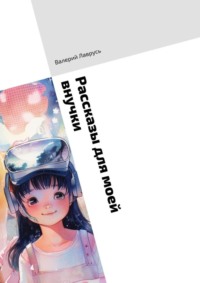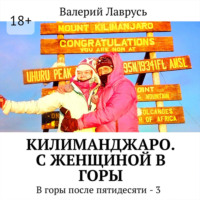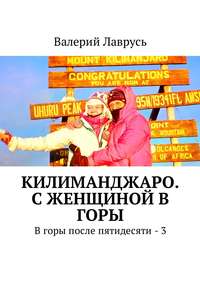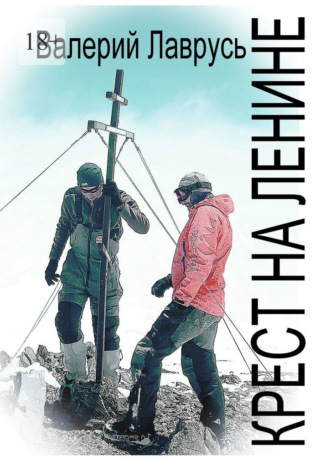
Полная версия
Крест на Ленине
– Не мог! – отмахнулся Робин, сел на велосипед и поехал с пристани по дороге вправо.
Спортивные велосипеды, они хороши на ровных асфальтовых дорогах. И совсем не годятся для грунтовых, а особенно – для песчаных. В конечном итоге пацаны спешились и потопали по неизвестному пути, ведомые смутными воспоминаниями Роба и Лёшки.
– Зуб даю, по той дороге проезжали! – Мальцов встал и отёр вспотевший лоб пыльной майкой.
– Имеешь в виду вон тот коровник? – мотнул Седых головой, он тоже запыхался по разгоняющейся жаре.
– А вы что дорогой называете? – Ребров сбросил рюкзак, достал воду и присосался. Лёха потянулся к нему.
– О, мужик! – Робин заметил какого-то крестьянина, бросил велик и пошёл к нему. Шура с Лёшкой, напившись, спрятали воду и достали сигареты.
Солнце поднялось уже высоко и с каждой минутой жарило всё сильнее. А вокруг – поля, поля, поля. А лагерь – в лесу. А на лес намекала лишь тонкая полоска на горизонте.
– Нам туда, – ткнул в полоску вернувшийся Робин, – километров пять-шесть… Потом ещё по лесу. Дорога, говорит, сейчас будет лучше, без песка. Ну, отдохнули? Покурили?
– А может… – начал Ребров.
– Звездеть команды не было! – жёстко пресёк дискуссию Робин. – Поехали!
До леса они добрались за час, ещё почти столько же ехали по нему, пока вдруг не выскочили на поляну, где резвились спортсмены.
Робин взбодрился и побежал спасать Светку, а Ребров с Седыхом приползли к палатке Новокуйбышевской лыжной спортивной школы. Там их знали (и, может, даже любили), хотя точно не ждали, но всё же накормили кашей, напоили чаем и отправили отдыхать в палатку, где они, растянувшись на надувных матрацах, сразу заснули как убитые.
Просыпались парни только раз, когда в палатку вполз Мальцов. Лёшка его о чём-то невнятно спросил, Робин отмолчался, упал и тотчас заснул. Очнулись ближе к двум, когда объявили всеобщий обед и «водяное перемирие». Выбравшись на воздух, опухшие от жары и сна, они ещё минут десять хлопали бессмысленными глазами и слонялись как неприкаянные, пока их не усадили за стол и не налили первого. Второе – строго по счёту, им не полагалось.
Пока хлебали щи, виновник торжества угрюмо молчал, игнорируя осторожные расспросы друзей. Минут через сорок, окончательно проснувшись, они покинули лагерь. Только на пристани Робин всё рассказал.
Не зря он ожидал худшего. Светка таки спуталась со студентом, и Робин чуть не устроил грязную драку – хорошо, разнял тренер. Потом Робин попытался поговорить со Светкой, но был не принят, не понят и послан.
А ещё ему заявили: «Чё припёрся? Тебя ждали, да… Ещё и уродов своих приволок».
– Она так про вас, если чё… – уточнил Мальцов Шурке и Лёшке.
– Вот сука! – фыркнул возмущённый Лёха. – Ахри-и-инеть просто! А я говорил! Малой, так, может, хрен с ней? Пошли её. Пожалеет ещё…
Робин ничего не ответил. Выглядел он подавленным и сокрушённым. Шурка тоже промолчал, только подумал, что как-то уж очень быстро Роб втянул его в эту безнадёжную авантюру.
Они сели в трамвайчик и через двадцать минут высадились возле проходной пивзавода, а ещё через час стояли на платформе электрички в Новокуйбышевск. До вокзала от пристани ребята добирались на троллейбусе: кондуктор и водитель, поначалу не пускавшие их с велосипедами, потом сжалились. Робин поведал им леденящую душу историю своей неразделённой любви: как они, трое друзей, прошли двадцать километров пешком за Волгой – туда и обратно. А всё потому, что велосипеды им сломали враги-ухажёры. Робин умел подобрать нужные слова и мог убедить и уговорить любого.
А ещё Робин, единственный из них, всегда оставался настоящим спортсменом. И отчаянным авантюристом. А потому – альпинистом.
Интересно, все альпинисты – авантюристы?
Глава четвёртая.
Трусы из парашютных строп
Альпинизмом Робин увлёкся в 1982-м, после того как наши поднялись на Эверест.
Знаменитая 1-я Гималайская экспедиция. Одиннадцать советских альпинистов: Балыбердин, Мысловский, Бершов, Туркевич, Иванов, Ефимов, Валиев, Хрищатый, Хомутов, Пучков и Голодов. Они стали национальными героями. Почти космонавты! Впрочем, нет. Всё прошло скромнее.
Шура, Робин и Алексей тогда уже учились на первом курсе радиотехнического факультета Куйбышевского авиационного института.
Они все болели за наших альпинистов, но только Мальцов заболел горовосхождением тяжело и неизлечимо и уже осенью 1982-го, после летнего стройотряда, записался в секцию альпинизма куйбышевского «Спартака». Ни Шурка, ни Лёша серьёзно к данному факту не отнеслись: мало ли кто куда записывался? Не стали же они лыжниками. И хоккеистами не стали. Но Робин проявил присущее ему упорство (или упрямство?) и летом 83-го, съездив на альпинистские сборы на Кавказ в Узункол, вернулся с бело-золотым значком «Альпинист СССР». Это уже выглядело серьёзной заявкой.
Теперь он не расставался с только что вышедшей книгой Юрия Роста «Эверест-82», цитировал, зачитывал и распевал оттуда вслух: «…дни как таковые ничего не значили, были периоды. Период работы и период отдыха… Первый – когда наверху заставляешь делать себя то, что необходимо; второй – когда внизу ешь, спишь, читаешь… Полтора месяца – эти три периода внизу и три наверху, затем полтора дня на траве под деревьями монастыря Тхъянгбоче, и там время шло не на дни, а на часы, каждый из которых дарил тёплую зелень; воздух, чья плотность просто физически ощущалась, ровный, без признаков удушья сон, и никакого кашля… А потом штурм… Вот и вся экспедиция»18.
В то же лето 83-го Шура и Алексей бездарно съездили в стройотряд. Ничего не заработав, они даже позавидовали Робу. Виду, однако, не подали, а взялись над другом подтрунивать. На вопросы преподавателей: «А где у нас сегодня Мальцов?» – хором отвечали: «В дюльфер19 ушёл». Аудитория кисла от смеха.
Робин на хохмы внимания не обращал, совместные пивопития в общаге не пропускал, учился на отлично, за девчонками ухлёстывал перманентно, но при этом он всё больше и больше погружался в странный и загадочный альпинистский мир и уже втайне начал мечтать о загадочном «Снежном барсе».
Тогда же он стал собирать горную библиотеку: объект собственной гордости и предмет тихой зависти таких же сумасшедших коллег-альпинистов из секции.
О-о-о-о… У него там были замечательные экземпляры!
Уникальная, издания 1934 года, книга М. Ромма «Восхождение на пик Сталина» (пик Сталина! Представляете? Он уже с 1962 года – пик Коммунизма!).
Евгений Абалаков «На высочайших вершинах Советского Союза», ещё издания Академии наук.
Воениздатовский «Эльбрус в огне» Александра Михайловича Гусева, альпиниста и воина, в 1943 году снявшего фашистский флаг с Эльбруса.
«Побеждённые вершины», Ежегодник Советского альпинизма №2 под общей редакцией Симонова. (Аж 1949 года издания!)
В голубой обложке со слепым альпинистом и шерпой «Аннапурна» Мориса Эрцога.
Жёлто-фиолетовый, потрёпанный, с шерпой, «Тигр снегов» Ульмана Джеймса, с иллюстрациями и чёрно-белыми фотографиями, с биографией Норгея Тенцинга, записанной с его слов. Самого Норгея! Легендарного Тенцинга – кто первым стоял на Эвересте.
Простенькая «Чо-Ойю – Милость богов» Герберта Тихи.
«Категория трудности» Владимира Шатаева, зелёно-коричневая 1982 года издания с альпинистом, спускающимся по ледовой стене, с чёрно-белыми фотографиями.
И гордость мальцовской библиотеки – сине-золотой на мелованной бумаге с уникальными цветными фотографиями «Эверест-82» Юрия Роста.
Сколько стоили некоторые из этих книг, даже спрашивать страшно. Настоящее сокровище. Но Робин уже тогда перебрался в Куйбышев к бабушке и вступил во владение дедовым наследством, в коем имелся не только уже известный «Москвич-412», но и сберегательная книжка на пять тысяч рублей. Тогда же он начал собирать и горное снаряжение.
Восьмидесятые – сложное время… В магазинах и еды не всегда найдёшь, а за хорошей обувью и одеждой провинциальный народ ездил в Москву. Но Робин где-то умудрялся доставать импортные спортивные товары: итальянскую болоньевую куртку, спортивный костюм и кроссовки Adidas; из специального снаряжения: вэцээспээсовские ботинки-вибрамы, мотоциклетную каску, геологический спальник и целую кучу самодельных металлических вещей. Что-то он делал сам, например сам сшил обвязку из парашютной стропы.
Но пацаны продолжали подтрунивать над Мальцовым, пока однажды тот не пригласил их на тренировку клуба на гору Барсук. Случилось всё уже в конце октября 1984-го. Шура только-только сделал предложение своей Соне – свадьба намечалась в декабре, и по этому поводу друзья собрались попить пива у Роба. Антонина Ивановна никогда особо не возражала против таких коллективных возлияний, да и «не особо» – тоже. Терпела бабушка от любимого внука всё, а он – паразит такой! – бессовестно пользовался её добротой.
– И что, прям вот так и женишься?
Робин не мог взять в толк, как же так: Шурка Ребров (их Шурка, их Бро, кореш, друг лепший, брат, можно сказать!) и вдруг – женатый человек.
– Отвали от него, – защищал друга Лёшка. – Не все такие ахриневшие трусы́ из парашютных строп шьют. Кое-кто – люди серьёзные. Даже можно предположить, взрослые…
– А чего сам-то не женишься? – Робин перевёл огонь с Реброва на Седыха.
– А не встретил ещё такую Соню… – выдохнул Лёха и приник к трёхлитровой банке пива: пили из тары, чтобы меньше убирать, и так рыбой уже насвинячили.
– Присосался… А ну дай! – Роб отобрал банку у Седыха. – Не встретил он… Ты смотри, Бро, а то этот тихоня на Соньку так и поглядывает…
Шурка видел. С некоторых пор Лёха принялся вздыхать по девчонкам друзей. Заведёт себе Робин подругу, и Лёха тут как тут, ходит, вздыхает. Или Шура познакомится – не успеешь оглянуться – девушка уже откуда-то знает Лёшу Седыха. Опасная, надо сказать, тенденция. Правда, отбивать Лёшка никого не отбивал, он скорее служил девушкам носовым платком, жилеткой, куда можно поплакаться. После расставания с Робом или с Шурой девушки прямиком направлялась к Лёшке, досыта выплакивались и с лёгкой душой исчезали из жизни друзей.
– Дураки вы оба, – задумчиво грызя плавник, произнёс Лёша. – Ахри-и-иневшие. В женской душе ничего не смыслите.
Шурка дождался очереди, отхлебнул пива, передал банку Лёшке, вытер губы и поворошился в рыбьих останках.
– А ты у нас, Роб, видимо, никогда не женишься…
– Ага, – поддакнул Лёшка, – он у нас, как Елизавета Английская, – женат на альпинизме.
Робин не мигая уставился на Седыха.
– Ты сам-то понял, что сейчас ляпнул? Умник «ахриневший». Сколько ты сейчас логических ошибок сделал? Программист блинский. А вообще, – он вдруг с вызовом обвёл друзей взглядом, – вы чего ни разу не приходили ко мне на тренировку? Друзья, тоже мне… Прикалываются… Трусы́ я им из строп шью.
– Ахри-и-инеть! – возмутился Седых. – А ты звал?!
– Зову! В воскресенье, на Барсуке! Позырите, хоть…
На Сокольих горах левого берега Волги, практически в городской черте Самары, расположились живописные доломитовые скальные выходы Барсука, их давно облюбовали разного рода туристы: от нудистов до парапланеристов, и, конечно, не могли их обойти стороной альпинистские секции. Добирались туда любители обычным городским транспортом – пятидесятым автобусом. Доезжаешь до «Сорокиных хуторов», а дальше просёлочной дорогой через лес пару километров, и перед тобой красивейшее место: Волга, острова, скальный обрыв, нависший над величественной рекой, а за спиной – лес.
В воскресенье, 28 октября погода задалась. Конец золотой осени. Листва почти вся опала. Воздух тих и прозрачен. Утром ещё холодно, но к обеду солнце скалы прогревает, и по ним лазать вполне комфортно.
Когда на площадку Нижних Барсуков добрались Шура с Алексеем, там уже было человек десять альпинистов-скалолазов из «Спартака». Собирали станции, провешивали верёвки, готовились к спускам. Робин крутился среди них, в той самой самошивной обвязке, оранжевой строительной каске, перчатках и калошах. Да-да, не удивляйтесь, в обыкновенных калошах. Ещё в семидесятые советские скалолазы, удивив весь мир, стали использовать калоши в качестве специальной обуви для скального прохождения. От наших калош потом и скальные туфли произошли.
Часть спортсменов ушла вниз. С ними отправился Лёшка с фотоаппаратом – Роб попросил его сделать фотографии. Шура остался наверху.
Роб в дюльфер уходил третьим. Ребров весь процесс в деталях рассмотрел на первых двух скалолазах: вот спортсмен встаёт спиной к обрыву; вот вставляет верёвку в спусковое устройство – «восьмёрку», закреплённое на нижней обвязке, самостраховка пока ещё пристёгнута к станции; вот он приседает, выстёгиваясь из станции, и пятится, пятится, отклоняясь спиной к высоте, и зависает! На верёвке! На одной верёвке! И идёт, перебирая ногами, вниз вертикально, скрываясь за обрывом и страхуя себя рукой.
Шура так разволновался, что, когда в дюльфер отправился Робин, у него едва не случился разрыв сердца.
Не-е-е-ет!
Нет-нет-нет!
Он бы так не смог. И не просите! И не уговаривайте! Никогда!
Но Робин-то! Робин! Ай да Мальцов, ай да сукин сын! А они прикалывались…
Потом Робин ходил траверсом по стене, лазал вертикально вверх, и всё у него получалось так ловко, так легко, просто загляденье, и со стороны казалось: что может быть проще, чем ходить по стенам?! Да, его страховали. Но друзья видели, как следом за Робом, сорвавшись с криком и едва избежав столкновения с выступающим камнем, повисла на верёвке девушка-альпинистка. И тут стало понято, что нет, вовсе это не легко.
Когда тренировка закончилась, друзья подошли к Робу, крепко пожали руку, обняли, а Лёшка восхищённо произнёс: «Как в кине, блин! Ахриненно!» Тут же выяснилось, что Седых так впечатлился, что забыл сделать фотографии. А Шурка просто промолчал: он внезапно понял, что друг у него – серьёзный мужик и сильный человек. Нет-нет, Шура не позавидовал. Как можно завидовать, к примеру, космонавту? Но уважение к другу выросло до немыслимого размера.
– На следующий год на Кавказ едем, – приобняв Седыха, сообщил ошеломлённым друзьям Мальцов. – А потом… может, и на Памир! А там семитысячники! Сечёте? «Снежный барс»!
Робин пух. Пух от гордости. Он видел восторг друзей ещё на скале и хотел вдоволь им насладиться. Но друзья, уловив его настроение, как-то сразу отвлеклись и принялись рассматривать Волгу.
– Вы чё, пацаны? – Робин дёрнул Лёшку за плечо. – Ахринели?
– Шур, – обратился Седых к Реброву, – а этот ахриневший герой теорему Котельникова20точно помнит? Или он может только девкам головы кружить самовязаными труса́ми с железками?
– Куда ему, убогому! – отмахнулся Ребров. – Видел, какой камень ему в башку прилетел?
– Ага… Вот такенный булыжник!
– Вы чего? – растерялся Мальцов. – Чего вы?!
Седых засмеялся и двинул плечом Робина:
– Пиво пошли пить, герой! Альпинист, блин, хренов! «Снежный барс» недоделанный.
Но после той тренировки друзья над Мальцовым больше не прикалывались.
На следующий год Робин, как и планировал, съездил на Кавказ и вернулся с третьим разрядом. Но в 1986-м летом поехать не удалось: приболела бабушка, а тут и преддипломная практика подоспела, приближался диплом.
С дипломом они снова отличились. Глобально тему им дали общую – разработка системы автоматического управления антенного блока радиолокационной станции дальнего обнаружения. Понятно, что конкретные задания были индивидуальные, но всех, абсолютно всех, включая руководителя дипломных проектов, волновала устойчивость работы системы при таком мизерном соотношении сигнал/шум (система была реальная). Долго пацаны не могли определиться с критериями той самой устойчивости. Потом их замучила множественность решений дифференциального уравнения. Система то впадала в генерацию: на практике ревела и тряслась, как психическая; а то реагировала совсем вяло, едва шевеля исполнительными сельсинами21.
Решение, как всегда неожиданно, принёс в клюве Робин.
Они собрались попить пива, а за пивом взялись чихвостить куйбышевский футбольный клуб «Крылья Советов», и тут Робин, внезапно замолчав, уставился невидящими глазами в стену, а потом подскочил и вдруг начал фонтанировать идеями. Извергался он минут десять, мечась по комнате, словно дикий зверь, размахивая руками и брызжа слюной.
В какой-то момент Шура его поймал, усадил, сунул ему кружку – в этот раз пили по-культурному, – сел за стол, и теперь уже он, Ребров, двадцать минут в полной тишине что-то чиркал и перечёркивал в тетради, после чего закрыл её и вручил Лёшке. Тот глянул записи, почесал затылок, хмыкнул, поднялся и, не прощаясь, вышел.
Через два дня Седых принёс изящный, нет, изящнейший алгоритм, не только находящий приличные решения, но и не «зависающий» на генерациях и избыточных затуханиях.
Пролистав Лёшкину тетрадку, Мальцов внимательно поглядел на друга и изрёк:
– Ну ты, блин, колдун!
Потом ещё раз перелистал тетрадь и вдруг спохватился:
– А программу? Программу ты не написал, что ли?!
И Шура с Лёшкой чуть не выбросили нахала в форточку.
Руководитель радовался как ребёнок: ему как раз не хватало такого решения в кандидатскую диссертацию. И после защиты всем троим предложили остаться в институте. На разных кафедрах, но с большими перспективами.
Они остались. Хотя спустя всего лишь год друзья уже провожали Седыха на Камчатку. Ждали его там лейтенантские погоны, казённый дом, вулканы и аэродром дальних всепогодных перехватчиков в Елизово. Такая, понимаешь, романтика.
Летом того же года Робин укатил на Урал и привёз оттуда второй разряд. «Снежный барс» приближался.
Шуре Реброву было некогда: Влад учился ходить – парню шёл второй год.
Глава пятая.
Мифология советского альпинизма
«Снежный барс» – вожделенная мечта любого альпиниста Советского Союза. Не имея возможности поехать в Непал и Пакистан к поднебесным восьмитысячникам – непростое мироустройство и сложное политическое положение СССР не позволяли нашим парням свободно разъезжать по миру, – советским альпинистам приходилось «довольствоваться» родными среднеазиатскими семитысячниками. Однако общий уровень подготовки у наших альпинистов считался весьма и весьма приличным. И в 1982-м они это доказали, взойдя сверхсложным маршрутом на Эверест (превосходная степень указана не зря, поверьте или проверьте, почитав отзывы ведущих, с мировым именем иностранных альпинистов), сохранив при этом всех членов команды живыми и относительно здоровыми, что по тем временам – явление чрезвычайно редкое.
А готовились наши спортсмены как раз таки на пяти среднеазиатских семитысячниках. На трёх памирских: пике Ленина (7 134 м), пике Коммунизма (7 495 м) и пике Евгении Корженевской (7 105 м). (Пик Ленина находится на границе Киргизии и Таджикистана, а пик Коммунизма и Корженевской – в Таджикистане.) И двух тянь-шаньских: пик Хан-Тенгри (6 995 м) и пик Победы (7 439 м). (Хан расположен на границе Киргизии и Казахстана, Победа – на границе Киргизии и Китая.)
И вот восхождение на все пять семитысячников – Хан-Тенгри, недотянувший пяти метров до 7 000, тоже причислялся к ним – давало право носить жетон «Покоритель высочайших гор СССР», в народе именуемый «Снежным барсом».
Кто из альпинистов не мечтал о таком жетоне? Мечтал и Роберт Мальцов.
Самый крутой, самый сложный, самый опасный и самый престижный из этой пятёрки, безусловно, – пик Победы. Будучи не самым высоким, уступая пику Коммунизма пятьдесят с лишним метров, Победа добирает «крутизны» длинным четырёхкилометровым гребнем-ножом перед выходом на вершину. Гребень сформирован гигантскими снежными карнизами, готовыми в любую минуту обрушиться на непроходимую, отвесную китайскую сторону. А ещё непредсказуемая погода, ураганные ветры и сумасшедшие снегопады. Пик Победы твёрдо удерживает первенство по смертям из барсовой пятёрки. При восхождении на него погибло больше альпинистов, чем на любом другом из пятёрки (с учётом того, что любителей на нём практически не бывает).
Укороченный список происшествий на пике Победы за последние шестьдесят пять лет таков:
• в 1955 году команда из двенадцати человек на 7 000 метрах попала в ураган, выжил один восходитель;
• в 1959-м узбекская команда потеряла троих;
• в 1960-м спасатели, пытаясь эвакуировать тела альпинистов, погибших в 1959-м, и сами попали под лавину, часть сумела откопаться и откопать других, но десятерых откачать не удалось;
• в 1961 году в грузинской экспедиции погибли три человека;
• в 1981-м – пять человек;
• в 1984-м – шесть.
Каждый год Победа забирала альпинистов… И это ещё до распада СССР, когда работала советская школа, где традиционно всё строго выверялось: кто, когда и где имеет право подняться на ту или иную гору.
К 2019 году на пике Победы в общей сложности погибли 76 человек. Из них: 31 пропал без вести, 16 сорвались, 11 замёрзли, в лавинах погибли 12, от инфаркта и отёка лёгких – 10. 2021-й прибавил ещё троих. Знаменитый питерский альпинист Николай Тотмянин, зная печальную статистику, утверждал, что если Победа в каком-то году не забрала жизнь, то и успешных восхождений в тот год не случалось. А ещё рассказывают анекдот. Русского альпиниста на Эвересте спрашивают: «Ты на какой горе готовился к Эвересту?» А тот отвечает: «Это я на Эвересте готовлюсь к Победе». Такая она, Победа. Её даже в 1985-м на четыре года закрывали.
Вторым по сложности следует признать Хан-Тенгри, Властитель неба в переводе с тюркского. Хан – сосед пика Победы. Это не совсем «правильный» семитысячник. В Советском Союзе ему давали «всего лишь» 6 995 метров. Изначально он даже не входил в список вершин «Снежного барса», его туда добавили в 1985-м вместо Победы. И за четыре года, пока Победа была закрыта, сразу же более 150 альпинистов получили «Снежного барса» (сегодня их называют «Барсы без хвоста»). В 1985 году Хан-Тенгри зашёл в список «барсовских» вершин, да так там и остался. Сегодня ему накинули ещё 15 метров за счёт ледниковой шапки. Но даже если он недотягивает до семи тысяч по метражу, это не умаляет его технической сложности. Сложности и красоты. Хан – почти правильная пирамида, покрытая снегом и льдом. В зависимости от времени суток и освещённости он обретает цвета от золотистого до кроваво-красного. Удивительная вершина. Но и она не щадит жизни: 72 альпиниста погибло при восхождении на Хан-Тенгри.
Два соседа на Памире – пик Коммунизма и пик Евгении Корженевской («Корженева», как его обычно называют альпинисты) – в «табели о рангах» по сложности занимают положение среднее. «Среднее» – для профессионалов. Простым смертным на них тоже ходить не стоит. Обе горы имеют участки, кои нужно проходить, уже имея приличный опыт скальных восхождений. Верёвки. Кошки. Жумары. Карабины22. Всё по полной! И Коммунизм забрал 48 жизней, а Корженева – 11… меньше всех.
Кто там на галёрке крикнул: «Мало!»? Дать в ухо, чтобы не орал…
Развелось, понимаешь, диванных экспертов. Ты задницу оторви да попробуй для начала взойти на Эльбрус с юга, с его механизацией, тогда, может, промолчишь с достоинством. А то орут, понимаешь…
На чём остановились?
А!
Но все перечисленные семитысячники, как и само звание «Снежный барс», начинаются с пика Ленина, технически самого несложного, трекингового, не требующего серьёзной подготовки, только – крепкого здоровья, хорошей физической формы и опыта восхождения выше пяти тысяч. И первые сорок пять лет восхождений пик Ленина (до 1928 года пик Кауфмана) альпинистам злых сюрпризов не преподносил.
Да, в июле 1968 года на вершине погибли четверо десантников, но то не альпинистская история, к этой трагедии привела завиральная идея военного руководства страны – десантироваться в горы на предельных высотах.
В альпинизме всё началось в 1974-м, когда восемь девушек, стремясь доказать состоятельность и самостоятельность женского альпинизма, угодили в кошмарный ураган на 6 900, не смогли к нему приготовиться, не смогли устоять и загибались в прямом эфире…
«У нас умерли двое… Унесло вещи… На пятерых три спальных мешка… Мы очень сильно мёрзнем, нам очень холодно. У четверых сильно обморожены руки…»
Они звали, но мужчины ничего не могли сделать. Руководитель экспедиции Эльвира Шатаева специально выбрала время, когда возле вершины не осталось ни одной мужской команды, а снизу к ним пробиться не получалось. Локальная воронка аномально низкого давления встала над Горой. Безумный ветер, космический холод и высота не позволили даже предпринять попытку спасательной операции. Даже пошевелиться! И всё же мужчины пробовали. Обмораживались, возвращались, но пробовали. Снова и снова. Пробовали наши. Пробовали американцы и японцы, они оказались ближе всех. Безуспешно. Изнемогшие, с примёрзшими к щекам слезами, они ползали по пояс в снегу обратно.
«Нас осталось двое… Сил больше нет… Через пятнадцать-двадцать минут нас не будет в живых…»