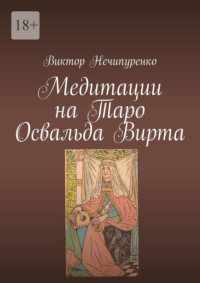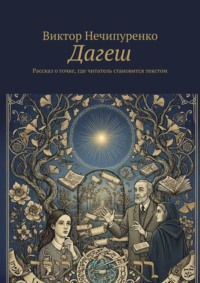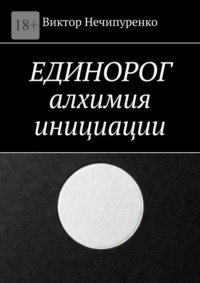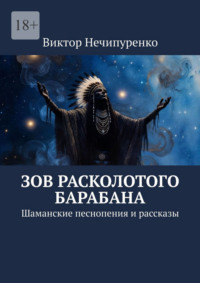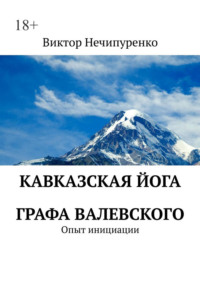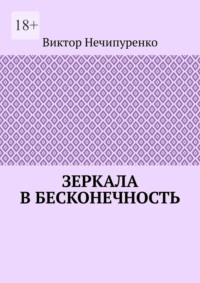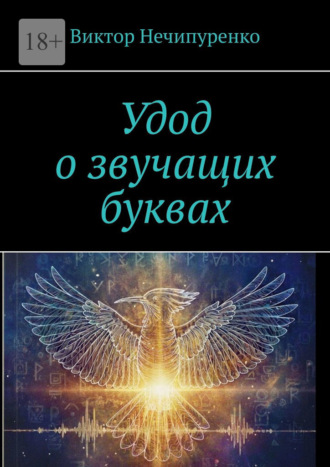
Полная версия
Удод о звучащих буквах
Предостережение Корана «не восхваляйте себя» звучит как напоминание о необходимости постоянной саморефлексии и отказа от гордыни, которая может сопутствовать даже праведным делам. Упоминание о «божественном обмане», с которым могут столкнуться те, кто не достиг совершенства, возможно, указывает на иллюзию самодостаточности, на восприятие своих добрых дел как своей заслуги, а не как дара Божьей милости. Совершенный же человек видит все как исходящее от Бога и ищет убежища от самодовольства.
Размышления о различиях между полами, рождении Иисуса как уникального соединения духовного и телесного, значении суры «Аль-Ихлас» (подчеркивающей абсолютное единство и неподобие Бога) и совершенстве Адама (которое не исключает возможности ошибки) – все эти элементы, вероятно, служат для иллюстрации сложности и многогранности Божественного творения и необходимости смиренного принятия установленного Им порядка, без попыток уравнять несравнимое или постичь непостижимое человеческим разумом.
В конечном итоге, глава 345 призывает к внутреннему путешествию – к познанию себя, к очищению сердца через искренность, к смирению перед Богом и Его тайнами. Истинный халифат – это не внешняя власть, а господство над собственным эго, обретенное через признание своей зависимости от Милости и Мудрости Всевышнего.
* * *
Есть тексты, которые служат не столько источником информации, сколько порогом, приглашением войти в иное измерение мысли и духа. Глава 345 из монументальных «Мекканских откровений» Ибн аль-Араби – именно такой порог. В ней Великий Шейх (Шейх аль-Акбар), с присущей ему глубиной и парадоксальностью, ведет нас к созерцанию предельных вопросов: природы Божественного Суда, границ человеческого и пророческого знания, мимолетности мистического озарения и вечной тайны, окружающей сам Престол (Трон) Божественной Реальности. Это не столько доктринальное изложение, сколько медитация над завесой, отделяющей творение от Творца, и над теми редкими мгновениями, когда эта завеса истончается.
Центральным нервом размышлений Шейха становится День Воскресения и Суд. Но суд этот предстает не как внешний трибунал, а как момент истины, проявления сокровенной сущности человека. Ключевым становится понятие «божественного образа» – той матрицы имен и качеств Всевышнего, по которой, согласно суфийской традиции, сотворен человек. Те немногие, чей образ достиг совершенства, чья внутренняя реальность полностью соответствует Божественным атрибутам Милости, Знания, Прощения, оказываются вне поля вопрошания. Ибо как можно спросить с Того, Кто действует не от себя, но как чистое зеркало Воли? «Бога не спросят о том, что Он делает,» – напоминает Ибн аль-Араби, указывая на высочайшую степень единения, когда человеческое «я» растворяется в Божественном.
Однако для большинства, чей образ замутнен, искажен земными пристрастиями и самостью, Суд неизбежен. И здесь Шейх вводит тонкое различие: будут спрошены не просто слова, но их источник. Если слово рождено не из глубин личного произвола, а является отголоском Божественного веления или вдохновения, оно остается вне суда. Но если оно несет на себе печать эго, пристрастия, своекорыстия – оно становится предметом разбирательства. В этом различении – вся драма человеческой свободы и ответственности в ее суфийском понимании: человек постоянно колеблется между своей тварной ограниченностью и потенциальной божественностью, между действием от себя и действием от Бога.
Особенно поразительным образом Ибн аль-Араби иллюстрирует пределы знания через диалог Бога с пророками в День Суда. На вопрос Всевышнего: «Каков был ваш ответ?» – они, высшие из творений, носители Откровения, смиренно отвечают: «У нас нет знания. Воистину, Ты – Знающий сокровенное». Этот ответ – не признание неведения в том, что они говорили, но в том, как их слова были восприняты в тайниках сердец последователей. Пророк видит внешнее, слышит ответ языка, но лишь Бог проникает в сокровенные намерения души. В этом ответе – квинтэссенция суфийского адаба, благоговейного смирения перед Бесконечным Знанием Творца. Бог спрашивает их не для проверки, утверждает Шейх, а чтобы явить их мудрость и их понимание границ собственного ведения всему собранию. Это урок не только для Судного Дня, но и для каждого мгновения жизни: признание ограниченности своего знания есть начало истинной мудрости.
Эта тема находит свое продолжение в размышлениях о природе мистического опыта. Ибн аль-Араби описывает состояние (халь), когда завеса приподнимается, и мистик видит реальность непосредственно, с Истиной, словно глядя Ее глазами. В такие моменты «зеркало сердца» или «зеркало зрения» отражает мир без искажений, в его подлинной сути. Ничто не скрыто. Но это – именно состояние, вспышка, озарение, а не постоянное положение (макам). Когда видение отступает, мистик возвращается к обычному восприятию, которое, хотя и поддерживается Истиной, уже не является видением с Ней. Он видит мир таким, каким он был в момент откровения, но не может знать, что происходит с ним после. Реальность динамична, текуча, и ее полнота открывается лишь в редкие мгновения Божественного присутствия. В остальное время человек идет по пути, лишь опираясь на свет Истины, но не обладая им полностью.
Символика Трона (Аль-Арш) вносит в текст элемент священной тайны, непостижимости. Ибн аль-Араби задает вопросы, но не дает ответов: тот ли это Трон Милостивого, что объемлет все творение, или особый Трон Судного Дня? Кто те восемь могучих носителей – ангелы или иные силы? Что есть сам Трон – символ власти (царство), место покоя (ложе) или нечто иное? Эта намеренная неопределенность – не признак недостаточности гнозиса, но указание на трансцендентность объекта. Трон – это предел, за которым человеческое разумение умолкает. Как и пророки, отвечающие «У нас нет знания», мистик должен остановиться в благоговении перед Тайной, не пытаясь заключить Бесконечное в рамки конечных определений. Тайна здесь – не проблема, которую нужно решить, а пространство для духовного роста, для смирения и любви к Непостижимому.
Наконец, Шейх возвращается к человеку как микрокосму, образу и подобию Божьему. В этом образе, утверждает он, должны присутствовать все Божественные Имена, включая кажущиеся противоположности: Милость и Строгость, Возвышение и Унижение. Полнота образа требует полноты проявлений. Добро и зло, свет и тень переплетаются в человеческой душе, но основой всего, истоком творения, остается Милосердие (Рахма). Бог дарует Свои имена и качества всем, но каждый принимает их в меру своей готовности, своей внутренней «формы». Отсюда – различия в судьбах, в степени познания, в конечном уделе.
Глава 345 – это глубокая медитация над природой реальности, знания и веры. Ибн аль-Араби не столько дает ответы, сколько намечает контуры Тайны. Он приглашает к смирению, к признанию пределов человеческого разума и к благоговению перед Бесконечным Знанием и Милосердием Всевышнего. Видение Судного Дня и Трона становится здесь не пугающим пророчеством, а зеркалом, в котором отражается как величие Божественного замысла, так и хрупкость человеческого существования на пути к Нему. Это напоминание о том, что истинный путь – это путь сердца, осознающего свое незнание и уповающего лишь на поддержку Истины, вечно ускользающей и вечно манящей.
Размышление о Едином и многом
Есть мгновения, когда завеса привычного мира истончается, и сквозь нее проступает иное знание, иной, почти забытый, опыт бытия. Это чувство, которое драматург Эжен Ионеско описывает с трепетом эйфории и веры, – когда барьеры между существами кажутся иллюзорными, когда мысль, подобно тончайшему эфиру, проникает повсюду, и «другой есть я». В такие просветленные моменты стираются жесткие контуры эго, и мир предстает не как случайное скопление отдельных, изолированных объектов, а как единый, дышащий, пульсирующий организм, пронизанный единым Духом. Это видение Рамакришны: вселенная как дом из воска, где сад, люди, коровы – лишь причудливые, временные формы единой субстанции, оживленные изнутри невидимым Господом. Это интуиция Паскаля, постигающего Бога как бесконечную и неделимую точку, движущуюся с безмерной скоростью, присутствующую в каждом месте одновременно. Это философское прозрение Владимира Соловьева, говорящего о Боге как о всеединой субстанции, абсолютной причине себя (causa sui) и всего сущего (causa omnium), основе и корне бытия всего, что есть. Это древнее, глубинное ощущение имманентности Божественного, сокровенного Единства за оглушительным гомоном Множества.
Но вот волна мистического опыта отступает, и мы вновь оказываемся на берегу привычной реальности, в мире, где «я» остро ощущает свою отдельность от «ты», где каждое существо, каждый камень, каждое дерево обладает своими границами, своей неповторимой формой, своей судьбой. Как примирить это всепроникающее, океаническое Единство с очевидной, порой мучительной, разделенностью нашего повседневного опыта? Как Единый, невидимый Свет, о котором размышляет Ионеско, преломляется в мириадах столь различных граней, видимых фасеточными глазами мухи, или нашими собственными, человеческими глазами, так часто замечающими лишь микрофрагменты реальности, а не целое? Как безграничное Божество становится источником конечного и разнообразного мира?
Возможно, ключ к этой тайне скрыт в самой природе имени, символа, формы – в тех тонких структурах, которые придают очертания бесформенному. Великий суфийский мистик Ибн Араби учил, что до нашего воплощения в этом мире «мы были Буквами» в предвечном Божественном Знании – потенциальными сущностями, архетипами, ожидающими своего проявления. Имена, Буквы – не есть ли они тот созидательный принцип, Логос, который очерчивает контуры, задает границы, кристаллизует индивидуальность из безбрежного Океана Бытия? Каждое Имя – это уникальный тон вибрации на бесконечной струне Духа, точка фокусировки смысла, определяющая «этость» вещи, ее уникальную суть, отделяя ее от всего «не-этого». Они – божественные артикуляции, придающие миру его сложность и красоту.
И здесь, в этой точке соприкосновения Единого и множественного, возникает мощный образ Глаза. Не случайно в древнем Египте Око Гора, Уаджет, было не просто амулетом, но символом целостности, исцеления, защиты и, что важно, сохранения индивидуальности даже за порогом смерти. Его помещали в гробницу, словно печать, гарантирующую, что душа усопшего не растворится бесследно в безличном хаосе Нуна, но сохранит свое уникальное «я», свою личностную форму. Глаз как орган восприятия, как сама возможность точки зрения – это и есть воплощение принципа индивидуальности, через которое она воспринимает всю вселенную со своей неповторимой перспективы. Каждый из нас смотрит на мир из своей уникальной башни, своим неповторимым взглядом, окрашенным личным опытом, памятью, чувствами. Даже если мир – это единый сад и пруд Лейбница, где в каждой капле воды, в каждом листе отражается бесконечность жизни, то каждая душа, каждое живое существо отражает эту бесконечность по-своему, под своим углом, со своей степенью ясности.
Может ли этот Глаз, этот принцип индивидуального видения, быть связан с идеей отражения как способом проявления Единого во множестве, о которой говорит шиитский философ Хайдар Амули? Он предлагает удивительно точную метафору: Божественное Самораскрытие (таджалли) подобно отражению пламени одной-единственной свечи в бесчисленных зеркалах, расставленных вокруг. Реально лишь само Пламя – Единый Источник Света и Бытия. Отражения же сами по себе, безотносительно к Пламени, суть «абсолютное небытие» (ал-«адам ал-махд). Они обретают свою видимость, свою множественность, свою иллюзию самостоятельности лишь по отношению к отражаемому Пламени, лишь благодаря ему. Не являются ли наши индивидуальные сознания, наши «я», наши души – подобными зеркалами? Каждое «я», каждый «глаз» – это уникальное по форме, чистоте и расположению зеркало, по-своему улавливающее, преломляющее и отражающее Единый Свет, Единое Пламя Божества.
Более того, в древности бытовало мнение, которое разделяли и платоники, и некоторые средневековые мыслители, как Соломон ибн Гвироль, что глаз не просто пассивно воспринимает свет извне, но сам излучает тончайшие лучи, активно встречая и формируя видимый мир. Если принять эту метафору, то наше индивидуальное сознание – не просто холодное, пассивное зеркало. Это зеркало живое, теплое, активное, которое своим собственным внутренним светом – светом нашей уникальной души, нашего опыта, нашей воли – окрашивает и модулирует отражение Единого. Наша индивидуальность тогда – это не только уникальный угол падения и отражения Божественного Света, но и уникальный способ «освещать» мир изнутри, соучаствовать в непрерывном акте творения реальности.
И тогда парадокс Единого и Многого начинает растворяться в более глубоком понимании. Множественность не отменяет Единое, но является способом Его бесконечного самопознания и самовыражения. Индивидуальность – не противоположность Божественному, не ошибка творения, а Его драгоценный лик, Его необходимое отражение в конкретном зеркале времени, пространства и сознания. «Другой есть я», как остро чувствовал Ионеско, не потому, что наши границы полностью стираются в неразличимое ничто, но потому, что и «я», и «другой» – лишь разные грани, разные отражения, разные «буквы» в бесконечном Слове Одного и Того же Света, Одной и Той же Мысли, которая, по Лейбницу, возможно, спит даже в камне. Мы говорим с собой, когда говорим с другим, потому что в глубине каждого «я» эхом звучит голос Единого, диалог Абсолюта с самим Собой через мириады Своих проявлений.
Границы, создаваемые Именами и очерчиваемые взглядом индивидуального Глаза, не являются непроницаемыми стенами тюрьмы. Это скорее тончайшие живые мембраны, позволяющие Единому дышать, проявляться во множестве форм, не теряя при этом Своей целостности. Они создают игру света и тени, неповторимую мелодию каждого индивидуального существования, драму жизни со всеми ее радостями и скорбями. Но за этой игрой, за этой видимой разделенностью всегда ощутимо присутствие безмолвного Источника – того вечного Пламени, без которого не было бы ни одного отражения, того непостижимого Океана Сознания, из которого рождаются все Имена и все миры.
И медитация приводит нас к тихой гавани созерцания: учиться видеть Единое во многом, и многое – как неповторимые лики Единого. Признавать священную реальность своего уникального «я», своего глаза, своего зеркала, своей «буквы» в божественном алфавите, но всегда помнить, что свет, который оно отражает, и сама его способность отражать – исходят из Одного, неиссякаемого Источника. И в этом трепетном узнавании – покой, невыразимая радость и глубинная, неразрывная связь со всем сущим, где каждое существо, от мельчайшего насекомого до сияющей галактики, – это священный и неповторимый способ Бытия говорить о Себе, познавать Себя, любить Себя в бесконечном танце форм. Это тихая симфония, где каждый инструмент играет свою уникальную партию, но все вместе они создают гармоническое единство Единого.
Поэтическое и гениальное всегда наивно
Фридрих Шеллинг в своей «Философии искусства» утверждает, что «поэтическое и гениальное всегда и необходимым образом наивно». На первый взгляд, это высказывание – чистый парадокс. Как может гений, воплощение высшего мастерства, сознания и глубины, быть связан с наивностью – качеством, которое мы обычно приписываем детству, простодушию, даже неведению? Однако для Шеллинга, стремившегося в своей философии примирить дух и природу, конечное и бесконечное, эта «наивность» – не недостаток, а знак подлинности, необходимое условие, позволяющее гению стать проводником Абсолюта, голосом самой Вселенной. Это не наивность незнания, а скорее, наивность сверхзнания – состояние, достигаемое по ту сторону рефлексии.
Что же такое эта шеллинговская наивность? Это не интеллектуальная или опытная скудость. Это – особое качество восприятия, способность видеть мир непосредственно, как бы впервые, освободившись от пелены привычек, условностей и аналитического расчленения. Гений, по Шеллингу, творит подобно природе – органично, спонтанно, из внутренней необходимости, не задаваясь вопросом «зачем?» и не всегда понимая «как?». В этом смысле наивность – это возвращение к состоянию изначальной открытости, когда субъект еще не отделил себя жесткой стеной от объекта, когда мир воспринимается в его целостности. Как заметил Кант, «гений – это талант (природный дар), который дает искусству правило», и это правило исходит не из рассудка, а из самой природы гения.
Поэт или художник, обладающий этой наивностью, не конструирует красоту по заранее заданным лекалам, но позволяет ей проявиться через себя. Он становится «органом природы», по выражению Шеллинга, или, говоря языком Хайдеггера, позволяет истине (aletheia) случиться как несокрытости. Вспомним стихи Гёльдерлина: сложнейшие философские прозрения о судьбе богов и человека облечены в форму, прозрачную и музыкальную, как народная песня. Эта простота – не результат упрощения, а знак того, что поэт достиг точки, где мысль и форма, идея и явление сплавлены воедино, где бесконечное просвечивает сквозь конечное без искажений.
Здесь и кроется главный парадокс. Гениальность, по Шеллингу, не может быть продуктом одной лишь сознательной воли и рефлексии. Чрезмерный самоанализ, постоянная оглядка на правила и теории рискуют иссушить живой источник творчества, превратить искусство в холодную конструкцию. Это трагедия гётевского Фауста, чьё знание становится стеной между ним и полнотой жизни. Наивность же, напротив, освобождает. Она позволяет творить с легкостью и свободой, будто играючи. Шекспир, которого так ценили романтики, создает целые вселенные, населенные живыми, дышащими персонажами, не заботясь (по крайней мере, явно) о системности философских рассуждений. Его герои убедительны именно потому, что их существование не сковано теоретическими рамками.
Однако эта спасительная наивность – не синоним невежества. Шеллинг вовсе не призывает к отказу от мастерства, культуры или глубокого знания. Скорее, речь идет о преодолении знания, о восхождении на тот уровень, где знание перестает быть бременем и становится частью интуитивного видения. Это сродни дзенскому понятию «шуньята» или «ума начинающего» – состояния сознания, которое, пройдя через дисциплину и опыт, возвращается к изначальной пустоте и открытости, но уже на новом витке спирали. Или даосскому принципу у-вэй – действию через недеяние, когда мастер действует в совершенной гармонии с миром, не навязывая ему свою волю. Художник не столько «создает» смысл, сколько позволяет миру говорить через него.
Но возможна ли такая наивность сегодня, в эпоху постмодернистской иронии, тотальной рефлексии и деконструкции? Не обречен ли современный художник быть вечным аналитиком, препарирующим и себя, и мир? Шеллинг и его эпоха оставили нам не только идеал, но и предостережение. Путь к этой высшей простоте часто лежит через страдание и разлад. Шиллер, сам теоретик искусства, тосковал по утраченной «наивной» поэзии, противопоставляя её своей, «сентиментальной», рефлексивной. Гёльдерлин, возможно, самый «наивный» и глубокий поэт немецкого романтизма, заплатил за свою гениальность безумием.
Наивность гения – это не блаженное неведение, а зачастую результат мучительной борьбы, итог преодоления сложности. Она требует смелости быть открытым, уязвимым, не защищенным броней цинизма или иронии. Вспомним пушкинского Моцарта. Его гениальность предстает как детская беззаботность, почти бессознательная игра («Нас мало избранных, счастливцев праздных…»). Но эта кажущаяся легкость становится понятной и обретает свою истинную глубину лишь на фоне сложнейшей полифонической традиции Баха и всей предшествующей музыки, а также в контрасте с мучительной рефлексией и «алгеброй» Сальери. Гений Моцарта – это не «до», а «после» сложности. Это «уметь так, чтобы казалось – не умеешь». Подобно этому, Пауль Клее, художник ХХ века, сознательно стремился к «детскому» видению, но это стремление опиралось на глубокое знание гётевской теории цвета, композиции и всей истории искусства.
Таким образом, шеллинговская «наивность» гения – это не точка старта, а точка возвращения. Это не отказ от разума и опыта, а их трансценденция. Это обретение такой ясности и непосредственности взгляда, которая становится возможной лишь после долгого пути через лабиринты культуры, философии и саморефлексии. Это та простота, что лежит по ту сторону сложности.
Гений наивен не потому, что он мало знает, а потому, что он способен в решающий момент творчества забыть все, что знает, и довериться интуиции, позволить произведению родиться как бы само собой, из глубин бытия. Он становится зеркалом, в котором мир узнает себя, или флейтой, через которую дышит ветер вечности. И в этом – вечный урок Шеллинга: подлинное искусство рождается там, где мастерство становится неотличимым от чуда, где глубочайшая мудрость обретает голос ребенка, и где человек, преодолев себя, вновь обретает единство с миром, позволяя ему звучать сквозь себя во всей его первозданной и вечно юной силе. Наивность гения – это не регресс, а высшая форма осознанности, способная коснуться того, что лежит за пределами слов.
О границах познания
Человеческий дух неутомим в своем стремлении познать. Мы строим системы, создаем языки, оттачиваем логику, пытаясь проникнуть в самую суть бытия, ухватить истину, назвать неназываемое. Но что, если сами инструменты нашего познания – понятия, слова, категории – являются не окнами в реальность, а скорее, искусными витражами, раскрашивающими свет, но не пропускающими его в первозданной чистоте? Что, если наш разум, подобно пауку, плетет паутину смыслов, в которой сам же и запутывается, принимая узоры сети за сам мир?
Фрэнсис Брэдли, английский неогегельянец, с безжалостной ясностью констатирует: «Способ мышления, использующий отношения, – любой способ, действующий посредством механизма терминов и отношений, – неизбежно дает нам явление, а не истину». Наше мышление по своей природе дискурсивно, оно оперирует разделениями, связями, сравнениями – оно неизбежно расчленяет живую целостность реальности на мертвые «термины» и «отношения». В результате мы получаем лишь «простую видимость», искусно сконструированную картину, но не саму действительность. Мир, пропущенный через фильтры нашего рассудка, оказывается миром феноменов, миром для нас, но не миром в себе.
Артур Шопенгауэр: «Мысли умирают в тот момент, когда они воплощаются в слова». Слово, призванное зафиксировать мысль, одновременно ее ограничивает, замораживает, лишает живой динамики и многозначности. Оно превращает трепетный полет интуиции в засушенный экспонат в гербарии понятий. И даже Альберт Эйнштейн признает, что само мышление «протекает в основном минуя символы (слова) и к тому же бессознательно», намекая на глубинные, довербальные слои познавательного процесса, которые ускользают от сетей языка.
Неокантианцы идут дальше, утверждая, что не только язык, но и вся структура нашего восприятия и сознания активно конструирует тот мир, который мы познаем. Макс Ферворн пессимистично заявляет, что «на пути наших органов чувств мы вообще не можем достигнуть адекватного познания мира». Наши чувства – не нейтральные регистраторы, а активные формирователи опыта. Ф. А. Ланге подчеркивает: «весь наш опыт обусловлен психической организацией… при другой организации те же предметы могут представиться совершенно иными». Мир, который мы видим, слышим, осязаем – это результат взаимодействия некоего внешнего «Х» (вещи в себе, по Канту) с нашими априорными формами чувственности и рассудка. Отто Либман с почти поэтической дерзостью вопрошает: «Чем был бы майский цветок и тяжелый грохот грома без света моего сознания? – Ничем». Сознание, по его мысли, не просто отражает, но творит мир нашего познания, формируя его своими имманентными формами.
Герман Коген описывает познание как бесконечный процесс определения неизвестного «Х» через последовательное наложение категориальных сеток. Мы все точнее описываем предмет, устанавливаем в нем все новые стороны и отношения, но этот процесс – лишь «уходящий в бесконечность ряд приближений». Сама «вещь в себе», неисчерпаемая полнота реальности, всегда остается за кадром, как недостижимый горизонт. Основа познаваемого сущего оказывается укорененной в самом мышлении, но мышление не способно исчерпать то, что лежит за его пределами. Весь познаваемый нами мир, как предполагает Ланге, возможно, есть не что иное, как «поэтическое произведение» нашего собственного разума – грандиозное, сложное, но все же творение, а не сама реальность.
Если разум с его категориями и словами неизбежно блуждает в мире явлений, существует ли иной путь к реальности? Анри Бергсон указывает на интуицию. В отличие от анализа, который расчленяет и рассматривает объект извне, интуиция – это «род интеллектуальной симпатии», позволяющей «перенестись внутрь предмета, чтобы слиться с тем, что есть в нем единственного и, следовательно, невыразимого». Абсолютное, по Бергсону, дано только в интуиции. По крайней мере, одна реальность доступна нам таким образом – это наше собственное «Я», наша длительность, которую мы схватываем не через понятия, а через непосредственное внутреннее переживание. Интуиция – это попытка преодолеть барьер между субъектом и объектом, почувствовать реальность изнутри, до слов и концепций.