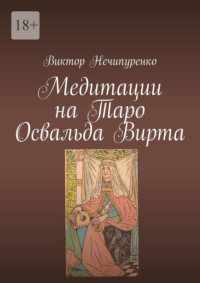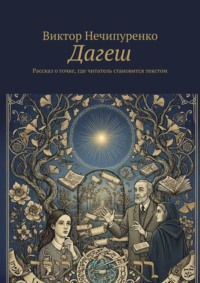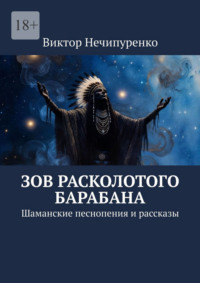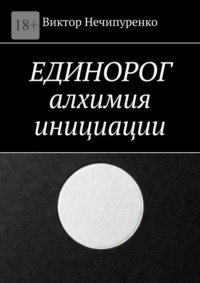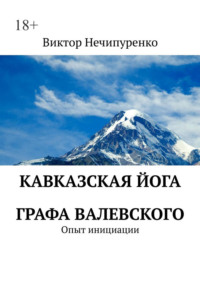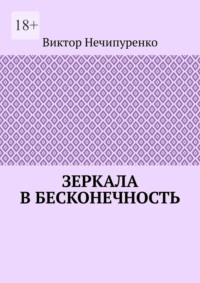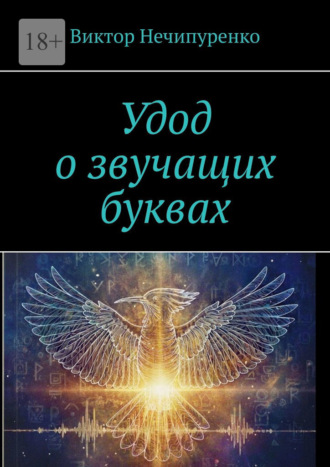
Полная версия
Удод о звучащих буквах

Удод о звучащих буквах
Виктор Нечипуренко
© Виктор Нечипуренко, 2025
ISBN 978-5-0068-0224-7
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Предисловие
О внемлющем сердце и звучащих буквах
«Удод о звучащих буквах». Само это название, подобно ключу от старинной шкатулки, обещает нечто большее, чем простое повествование. Оно зовет нас не к чтению глазами, а к слушанию – к тому особому, внутреннему слуху, который один лишь способен различить мелодию, скрытую за шумом времен. И проводником в этом странствии нам предлагается не ученый-схоласт и не проповедник с кафедры, а Удод – птица-мистагог, вестник тайн, тот самый мудрый вожак из «Беседы птиц» Фарида ад-Дина Аттара, который вел смятенную стаю душ к их Царю, к непостижимому Симургу.
Эта книга – не собрание доктрин и не свод правил. Это галерея зеркал, каждое из которых отражает один и тот же неуловимый Свет под своим, неповторимым углом. Это лабиринт, подобный тому, который выложен на плитах Шартрского собора, где путь к центру долог и извилист, где порой кажется, что ты удаляешься от цели, хотя на самом деле каждый поворот лишь приближает к ней. Это приглашение в путешествие, Voyage, как гласит одна из его глав, но не вовне, а вглубь – к тому сокровенному месту, где буквы перестают быть мертвыми знаками на бумаге и начинают звучать.
Что же это за «звучащие буквы божественного Имени», о которых говорит Удод, вторя сикхскому святому Кабиру? Что это за звук, который не ускользает, в отличие от падающих звезд и распадающихся тел, за который можно «держаться»? С самого порога этой книги нас встречает суровое, но честное предостережение: этот звук – не для всех. Или, вернее, не для всякого состояния души. «А таков ли твой нафс?» – вопрошает мудрый Удод смятенную птицу-душу. Очищен ли он? Утончен ли он до той степени, чтобы различить тончайшую вибрацию Истины от грубых шумов собственного «я»?
В этом вопросе – ключ ко всей книге. Она о том, как трудно, почти невозможно, услышать подлинное в мире, наполненном эхом. Мы живем, окруженные имитациями. Дрожь нашего эго, охваченного страхом или восторгом, трепет наших желаний, гул наших мнений – все это мы так легко принимаем за голос Божественного. Наше тело, по меткому слову Аттара, – «грубая буханка», укутанная в плотную «вату» привычек, привязанностей и предрассудков. Как же этой «буханке в вате» расслышать небесную мелодию?
Эта книга – безжалостное зеркало, показывающее нам нашу глухоту. Глухоту учеников, следующих за своим наставником, но не понимающих его «божественного юмора», как те мюриды, которые плакали, когда Брат Perdurabo смеялся, и смеялись, когда он плакал, создавая бесконечные волны недоразумений. Глухоту тех, кто пытается постичь суть, но остается, по слову суфиев, «ослом, нагруженным книгами», как тот бедный мюрид, который годами читал Коран, но не мог понять парадоксальный «обман» Баязида Бистами, пока благодать – или чувство юмора – не коснулась его сердца. Путь к звучащим буквам, как выясняется, лежит через осознание собственной неспособности их расслышать. Это путь смирения, путь очищения слуха.
Но если слух наш слаб, а сердце глухо, есть ли надежда? Есть, – отвечает эта книга, – и она в тех, кто стал живым воплощением этих букв, кто превратил себя из «буханки» в чуткий музыкальный инструмент, в резонатор Божественного.
Вот перед нами встает образ Фатимы бинт ибн аль-Мусанна, Хранительницы «Аль-Фатихи». Старуха с лицом юной девушки, питающаяся объедками, но владеющая силой, способной поворачивать судьбы. Она не учит сложным доктринам. Она просто есть. И в ее присутствии, в тихом шепоте священной суры, сама реальность начинает меняться. Ее сила – не в знании букв, а во владении их сутью. Для юного Ибн аль-Араби, будущего Величайшего Шейха, она становится первым уроком того, что истинное знание – это не информация, а состояние, не теория, а тотальное присутствие. «Остальные приходят ко мне с частью себя, – говорит она, – а Ибн аль-Араби приходит со всем собой». В этом – секрет Фатимы и ее дар. Она сама стала звучащей буквой, стала «Открывающей».
А вот иной образ, рожденный из мрака народной ереси, – Вавила-скоморох, «Голубиный бог». Фигура, разрывающая все шаблоны благочестия. Юродивый, плясун, многоженец, чьи сапоги полны крови от вбитых в них гвоздей. Его путь к святости лежит не через аскезу и молитву в их привычном понимании, а через экстаз, через страсть, через «божественное безумие», непостижимое для праведника-пустынника. Он не «спасается» – он пляшет свой кровавый танец, и в этом танце, в этом предельном напряжении бытия, он оказывается «выше» того, кто тридцать лет провел в посте и молитве. Вавила – это шокирующее напоминание о том, что пути Господни неисповедимы, что Его звучащие буквы могут обретать самые странные, самые парадоксальные формы, и что Дух «дышит, где хочет», выбирая порой самые неожиданные сосуды для Своей благодати.
Через всю книгу проходит эта тема парадоксального проводника, сомнительного с точки зрения мирской логики, но несущего искру подлинного знания. Таким предстает штандартенфюрер СС Иоганн фон Штольц в рассказе «Невидимые знамёна», который, будучи пленником и представителем бесчеловечной идеологии, становится для сына советского генерала учителем свободы мысли, раскрывая ему метафизику языка и истории. Он учит мальчика читать между строк, видеть «невидимые знамёна», за которыми следуют враждующие армии, и понимать, что любая борьба в этом мире, будь то «Mein Kampf» или битва Яхве, есть лишь проявление той или иной «поэтики», той или иной звучащей силы.
И, возможно, самым темным и сложным из таких проводников является Яков Франк, «Тень Мессии». Человек, объявивший себя спасителем и совершивший предельное кощунство – осквернивший свиток Торы в синагоге. Его путь – это путь антиномизма, путь через грех, через разрушение старого Закона, чтобы на его руинах родилось нечто новое. «Только через осквернение святыни откроется истинная святость», – говорит он. Его фигура – это пугающий вопрос, брошенный в лицо всякой ортодоксии: что, если Мессия приходит не для того, чтобы исполнить Закон, а для того, чтобы его взорвать? Что, если путь к Богу лежит через бездну, через тотальное нарушение всех запретов? Сон Франка о встрече с Матронитой и ее Дочерью, чья обнаженная грудь дарует всеведение, лишь подчеркивает глубину его мистического опыта, неразрывно связанного с ересью и трансгрессией.
Эти фигуры – святая, юродивый, пленный враг, еретик-мессия – учат нас одному: звучащие буквы не принадлежат какой-то одной системе, одной книге, одной религии. Они могут проявиться где угодно и через кого угодно. Они требуют от нас не слепой веры, а предельной открытости и способности к различению.
Но как обрести эту способность? Как настроить свой внутренний слух? Книга предлагает нам погрузиться в саму природу Звука и Слова, в ту метафизическую акустику, которая лежит в основе мироздания.
Мы узнаем, что мир рожден из Звука. Не из материи, а из вибрации. «Эхо предвечных вод», о котором говорят мифы всех народов, – это не вода, а символ «ритмов звуковых волн». Шум старше воды, гул – древнее огня. Материя вторична, она – лишь «замороженный звук», эхо, кристаллизация первозданного Ритма. Мы живем в мире, где правит «второй Звук» – звук Демиурга, упорядочивающий, структурирующий, защищающий нас от оглушающего рева «первого Звука», темного гула Прабездны. И весь духовный путь – это попытка через слышимый звук нашего мира уловить эхо того, первого, изначального, прикоснуться к Источнику.
Это знание было ведомо шаманам, чья поэтика, как здесь показано, есть не искусство украшения, а практика творения реальности. Голос алтайского кама, взывающего к «стальной горе», – это не метафора, а акт созидания. Бубен – не инструмент, а «звучащее небо». Песнь шамана Кестенбетца – не заклинание, а прямое целительное действие, «переоблачающее» мысли и тело больного, вливающее в него «безупречный аромат вселенной». Шаман – это тот, кто сохранил изначальную связь со словом-силой, со словом-деянием.
Этой же силой, но преломленной через иную культуру, обладает гудок Вавилы. Его поединок с царем Собакой – это не просто сказочная битва, а отголосок древнейшего индоевропейского мифа о борьбе Громовержца с хтоническим Змеем. Но здесь оружием становится не молния, а музыка. Это битва двух звуковых потоков: разрушительного, хаотического звука Нижнего мира и гармонизирующего, космоустроительного звука героя. Сила звука здесь предстает амбивалентной, нейтральной, как первобытная энергия, которую можно направить и на созидание, и на разрушение.
Музыка лиры Орфея – еще одна грань этой тайны. Семь ее струн – не просто источник мелодии, но микрокосмическая модель Вселенной, настроенная в резонанс с семью планетарными сферами. Игра на ней – это не искусство, а теургия, магическое воздействие на реальность. Душа человека, по мысли орфиков и пифагорейцев, сама подобна лире, и музыка способна настроить ее на лад космической гармонии, очистить от диссонансов страстей и повести по ступеням восхождения к бессмертию.
Когда мы начинаем понимать это, вся книга превращается в огромную, многострунную лиру. Каждая история, каждая притча, каждый философский пассаж – это отдельная струна, вибрирующая на своей частоте. Задача читателя – не просто пробежать по ним взглядом, но вслушаться в их созвучие, в ту гармонию, что рождается из их единства.
Мы видим, как эта гармония пронизывает все. Она в мистическом союзе Божественного Мужского и Женского начал, который, согласно «Зогару», является «тайной веры иудейской» и источником всех благословений в мире. Она в непостижимой Красоте Девства, которая удивила архангела Гавриила, – красоте не физической, а онтологической, красоте Жизни в ее энтелехии, в ее совершенной, неискаженной полноте. Она в «мудрости женской наготы», в той до-вербальной истине бытия, для постижения которой требуется вся утонченность философской мысли, прошедшей путь от наивного видения через анализ и вновь вернувшейся к простоте.
Но постижение этой гармонии – путь нелегкий. Он лежит через лабиринты парадоксов. Мысль Спинозы, эта строгая «геометрия духа», оказывается, по мнению многих, «каббалой в геометрической одежде». Великий рационалист, презиравший «пустомельцев» -мистиков, возможно, сам того не ведая, черпал из их колодца. Исполинская система Гегеля, эта «Голгофа Абсолютного Духа», открывается не через прямолинейное чтение, а через акт Erinnerung – воспоминания-овнутрения, через узнавание в галерее его образов пути своей собственной души, подобно тому как царь Давыд Евсеевич читал Голубиную Книгу не глазами, а своей «старой памятью».
На этом пути нас подстерегают ловушки. Можно, как юноша Кай, услышав песню о лодочнике, броситься убивать его во внешнем мире, не поняв, что истинный, «левый» лодочник, предательский перевозчик душ, сидит внутри нас самих. И задача – не просто убить его, но стать самому и Лодкой, и Лодочником, и самой Переправой. Можно, как искатель из притчи о пчелином яде, так увлечься «растворением» в мистическом опыте, что потерять себя, стать лишь пустым сосудом, из которого будет пить Неведомое.
Эта книга не дает легких ответов. Она ставит вопросы и указывает направления. Она подобна сну с Милорадом Павичем, где на вопрос о тройственной структуре изначального звука «АУМ» следует не ответ, а приглашение: «об этом, мой друг, мы поговорим в другой раз… Или во сне». Она похожа на путешествие Винни-Пуха и Пятачка в пустоту, где выясняется, что даже у пустоты есть стены и двери, и очень важно не заблудиться и не войти в чужую пустоту, например, в пустоту ночного мотылька.
В конечном счете, эта книга – о границах. О границах познания, где наш разум, мыслящий в терминах и отношениях, дает нам лишь «явление, а не истину». Где слова умирают, едва родившись, а истина выражается лишь в антиномиях. О пределах алфавита, где последняя буква, Тав (X), есть Неизвестный Конец, а первая, Вав (Y), – Невыразимое Начало, и нам остается лишь «пляска» хвалы вокруг этой тайны.
Именно поэтому, возможно, гениальное всегда наивно, как утверждал Шеллинг. Не потому, что оно не знает, а потому, что оно, пройдя сквозь все сложности, возвращается к прямому, детскому, не замутненному рефлексией взгляду. К тому взгляду, которым младенец-философ читает Вольтера, которым мальчик Боря видит в пищевой цепочке у пруда неразрешимую для взрослой морали драму, которым ребенок смотрит на месть епископа у Бунюэля, видя в ней не грех, а завораживающую завершенность гештальта.
Книга «Удод о звучащих буквах» – это приглашение вернуть себе такой взгляд. Приглашение приподнять свою вуаль, как поет Кабир, чтобы встретить Возлюбленную, которая всегда была здесь, в этом самом теле. Приглашение услышать «барабан без ударов», вечную музыку бытия. Это нелегкий путь. Он требует мужества взглянуть на полет ястреба у Бродского и увидеть в нем не просто красоту, но устремление к «астрономически объективному аду» трансцендентного. Он требует принять мудрость старика-землепашца у Низами, который сеет в пустыне, ибо знает, что его дело – сеять, а дело Творца – взращивать. Он требует пройти свою Via Dolorosa, будь то с Гегелем или с собственной судьбой.
Как же «схватиться» за эти звучащие буквы? Удод дает ответ в самом начале: никак. Не ты их хватаешь. Если стремление твое искренне, если жажда Имени сильнее страха, тогда «Он Сам схватит тебя, и тебе не нужно будет держаться – ты станешь частью Его вечной Песни».
Эта книга – и есть такая Песнь. Песнь, сотканная из множества голосов – философов и мистиков, поэтов и пророков, святых и еретиков. Она не дает окончательных ответов, но она настраивает слух. Она учит различать. Она помогает очистить наше восприятие от шума, чтобы однажды, в тишине собственного сердца, мы смогли услышать не эхо, но сам Звук. Ту единственную Букву, из которой рождаются все миры. Откройте же эту книгу и начните слушать. Путешествие начинается.
Удод о звучащих буквах
Кабир, как ускользают звезды, ниспадая, так ускользает тело.
Только звучащие буквы божественного Имени не ускользают, держись их, Кабир.
– Гуру Грантх Сахиб
В великом собрании птиц, отправившихся на поиски своего царя Симурга под предводительством мудрого Удода, как повествует Фарид ад-Дин Аттар в «Мантик ат-Тайр» («Беседе птиц»), звучали разные голоса. Голоса сомнения, страха, лени, привязанности к земному. Но звучали и голоса искреннего поиска, жажды Истины.
И вот одна из птиц обратилась к Удоду с вопросом, полным надежды и неуверенности:
– О мудрый наставник! Ты говоришь о «звучащих буквах божественного Имени», которые не ускользают, в отличие от звезд и тел. Ты говоришь, что за них можно держаться. Но скажи, могу ли я схватиться за эти звучащие буквы? Доступны ли они мне, слабой, несовершенной птице?
Удод посмотрел на нее своим проницательным взглядом, в котором отражалась мудрость долгих странствий и знание тайн обоих миров.
– А таков ли твой нафс? – ответил он вопросом на вопрос. – Твоя душа, твое эго, твое низшее «я»? Очищен ли он, утончен ли он так же, как у Кабира, который прошел через огонь любви и самоотречения, чтобы слышать эти буквы?
Он сделал паузу, давая словам проникнуть в сердце спрашивающей.
– Ибо слышать – не значит просто воспринимать звук ушами. Слышать по-настоящему – значит различать. Отличать подлинное звучание Имени от того, что лишь имитирует его. Ты слышишь вибрации своего тела? Дрожь своего нафса, охваченного страхом или восторгом? Трепет своих желаний? Все это – лишь эхо, лишь рябь на воде, но не сама Глубина. Легко принять эти внутренние шумы за голос Божественного. Легко обмануться.
– Любое другое звучание, кроме подлинного, – продолжал Удод, – будет ускользать. Затухать. Растворяться в тишине или тонуть в гомоне мира. За него ты не сможешь схватиться. Оно – как падающая звезда, как ускользающее тело, о котором говорил Кабир. Оно принадлежит миру форм, миру преходящего.
Удод обвел взглядом свою пеструю паству, и в голосе его прозвучала печальная ирония, но и безмерное сострадание:
– Аттар сказал: «Все тело твое подобно буханке». Грубой, плотной, земной. А одеяние твое, твои мысли, твои привычки, твои привязанности – как вата, что окутывает эту буханку, делая ее еще более неповоротливой и глухой. Как же ты, будучи такой «буханкой в вате», собираешься услышать тончайшие вибрации «звучащих букв божественного Имени»? А уж тем более – схватиться за них?
Он не предлагал легких путей, не давал ложных надежд. Схватиться за звучащие Буквы – значит самому стать созвучным Им. Очистить свой нафс, утончить свое восприятие, отбросить вату иллюзий и привязанностей. Превратить грубую буханку тела в чуткий музыкальный инструмент, способный резонировать с небесной мелодией.
– Путь долог, – заключил Удод, – и полон опасностей. Многие сходят с него, обманутые ложными звуками или испугавшиеся тишины, в которой только и можно расслышать подлинное. Но если стремление твое искренне, если жажда Имени сильнее страха и лени – тогда есть надежда. Очищай свой слух. Учись различать. И однажды, возможно, ты услышишь не эхо, но сам Звук. И тогда Он Сам схватит тебя, и тебе не нужно будет держаться – ты станешь частью Его вечной Песни.
И птицы в молчании слушали своего мудрого вожака, осознавая всю трудность предстоящего пути и всю безмерность той Цели, к которой звали их неускользающие, вечно звучащие Буквы Божественного Имени.
Битва при Бадре: царская хитрость и утерянное слово
…и знал семьдесят участников битвы при Бадре.
– Зикр Хасана Басри, да будет с ним милость Аллаха
В кругу учеников, жаждущих знаний и света, сидел Хасан аль-Басри, великий табиин, чья мудрость была подобна глубокому колодцу в знойной пустыне. И спросили его о битве при Бадре – том первом, легендарном сражении мусульман, где горстка верующих, ведомая Пророком, сокрушила превосходящие силы курайшитов. Спрашивали о чудесах, о помощи ангелов, о значении той победы.
Хасан Басри посмотрел на них своим проницательным взглядом и ответил словами, остудившими их пыл:
– Вы не можете знать, какое сражение угодно Аллаху, а какое нет. И не можете знать заранее, пошлет ли Он ангелов Своих сражаться за вас, или вам придется все делать самим, полагаясь лишь на свою силу и мужество.
Он помолчал, давая словам проникнуть в их сердца.
– В последнем случае, когда вы побеждаете сами, вся добыча, захваченная у врага, будет по праву вашей. Но если победа дарована свыше, если ангелы сражались рядом с вами… то вспомните, что сказано в Коране о добыче при Бадре: «Они спрашивают тебя о добыче. Скажи: „Добыча принадлежит Аллаху и Посланнику. Бойтесь же Аллаха, и водворите мир между собой (букв.: держите прямо то, что между вами), и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику, если вы верующие!“» (Коран 8:1)
– Аллах берет Себе то, что принадлежит Ему по праву, – продолжал Хасан Басри. – Он берет зат – саму суть, то, чем, как вам кажется, вы обладаете. Ибо ваша сущность, ваша самость, все ваши силы, все ваши победы – все принадлежит Аллаху…
Он хотел было развить эту мысль дальше, говорить о таухиде, о единстве Аллаха, о тщете человеческих усилий без Его воли. Но, видя растерянность на лицах учеников, решил объяснить свою мысль иначе – через сказку, через притчу.
– Жил когда-то царь, – начал он, и голос его обрел мягкость сказителя. – Царь мудрый и могущественный. У него было огромное, непобедимое войско, несметные сокровища, обширные земли. Но соседи его, короли других государств, об этом не знали. Царь был не только мудр, но и хитер. Он всячески скрывал свою истинную силу, не хвалился богатством, не выставлял напоказ свою ратную мощь.
– И вот однажды одно непокорное племя, жившее на границе его владений, подняло мятеж. Царь решил усмирить их и послал своего верного полководца. Но дал ему для этого похода не все свое могучее войско, а лишь небольшой, очень небольшой отряд. И отряд этот, как вскоре выяснилось, был в три раза меньше численности тех смутьянов, с кем ему предстояло сразиться.
– Вы спросите: зачем царь так поступил? – Хасан Басри обвел взглядом слушателей. – Чтобы испытать верность полководца и воинов? Нет! Он и так знал, что они будут биться насмерть, исполняя его приказ. Царь хотел иного. Он хотел проучить смутьянов раз и навсегда. Отбить у них всякую охоту нападать даже на малые отряды его воинов. Показать им наглядно, насколько его сила, даже скрытая, даже представленная малым числом, превосходит их силу.
– Но царь был не только хитер, но и предусмотрителен. Не желая бросать свой малый отряд на верную гибель, он тайно послал вслед за ним легкую конницу, отборных всадников. И повелел им двигаться скрытно, ночами, не выдавая своего присутствия, и ждать условного знака. Царь не мог допустить, чтобы в случае поражения его оружие, его знамя, сама его честь попали в руки непокорных бунтовщиков. Смутьяны думали, что они хитрят, нападая на малый отряд. Но царь перехитрил их.
– И вот, когда мятежники, уверенные в своей победе, напали на царский отряд, завязалась жестокая битва. Воины царя сражались отчаянно, но силы были неравны. И в тот самый момент, когда враги уже предвкушали победу, по условному знаку полководца, из-за холмов, словно из-под земли, вылетела царская конница! Свежая, яростная, она ударила смутьянам во фланг и в тыл. Исход битвы был решен мгновенно. Враг был сокрушен и рассеян.
– И когда воины малого отряда, опьяненные победой, стали собирать добычу – оружие, коней, пленников – и делить ее между собой, решив, что все это по праву принадлежит им, ибо они вынесли всю тяжесть боя, царь прислал гонца со словами: «Добыча – моя!»
– Вы спросите: какую же ценную для себя добычу нашел мудрый царь среди этих бедных, оборванных смутьянов? Золото? Оружие? Рабов? – Хасан Басри улыбнулся. – Нет. Самой ценной добычей для него стали они сами. Их страх. Их покорность. Отныне они знали силу царя и не смели поднять на него оружие. Он устрашил их и тем самым приобрел их.
Тут ученики снова спросили его о битве при Бадре, о тех семидесяти сподвижниках Пророка, асхаб аль-Бадр, которые участвовали в ней и обрели особую святость.
И Хасан Басри продолжил свою сказку:
– Взяв свою главную добычу – покорность врагов, – мудрый царь не забыл и о своих верных воинах из малого отряда. Он не дал им золота или земель. Он наградил их иным – своим особым расположением. Он призвал каждого из них к себе и сказал каждому одно чудное, сокровенное слово. Слово такой силы и сладости, что сердца воинов преисполнились такой любовью к царю, таким восторгом, что им захотелось одного – умереть в его присутствии, раствориться в его славе.
– Но слово это было тайным. Никто из них не мог выговорить его, пересказать другим. Оно жило в их сердцах, но не облекалось в звуки.
Хасан Басри посмотрел на своих учеников долгим, полным значения взглядом.
– А тот, кто, подобно мне, – сказал он тихо, – «знал семьдесят асхаб аль-Бадр», кто вслушивался в их рассказы, в их воспоминания об этой битве, тот догадался… Догадался, что то самое чудное слово, сказанное царем своим воинам, не исчезло бесследно. Оно затерялось и скрыто – где-то там, между строк их рассказов, в их молчании, в отблеске их глаз, вспоминающих Бадр. Оно там, ждет того, кто сумеет его расслышать…
И оставил он своих учеников размышлять – о битве, о добыче, о царской хитрости и о том невыразимом Слове, которое дороже всех трофеев мира и которое можно найти, лишь вслушиваясь в молчание героев Бадра.
Хранительница «Аль-Фатихи»
Во имя Аллаха милостивого, милосердного!
Хвала – Аллаху, Господу миров,
милостивому, милосердному,
царю в день суда!
Тебе мы поклоняемся и Тебя просим помочь!
Веди нас по дороге прямой,
по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал,
не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших.
В лабиринте узких, пыльных улиц альмохадской Севильи, где полуденный зной раскалял стертый камень мостовых, а воздух дрожал от многоголосого гомона торговцев и протяжных призывов муэдзинов, город хранил свои тайны. Не только тайны придворных интриг в мраморных залах Алькасара или шепот влюбленных, тайком встречающихся в прохладной тени апельсиновых деревьев внутренних патио, но и секреты иного рода – те, что касались незримых путей души, сплетенных в самом сердце цветущей Андалусии. Севилья дышала одновременно настоящим, прошлым и вечностью, словно под резными каменными арками и кружевными машрабиями домов скрывались не только тени минувших веков, но и знания, способные изменить предначертание судьбы. И одной из таких живых тайн была Фатима бинт ибн аль-Мусанна.