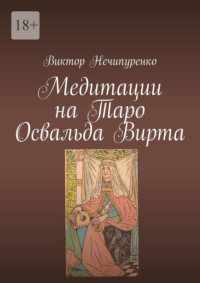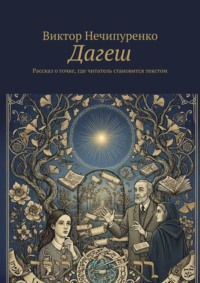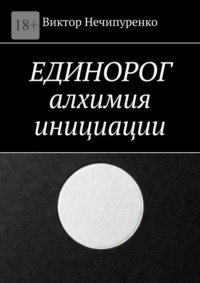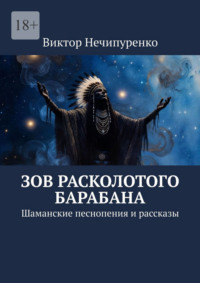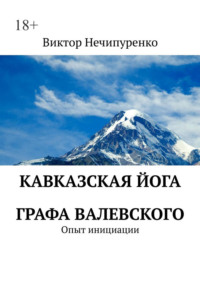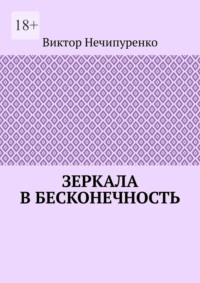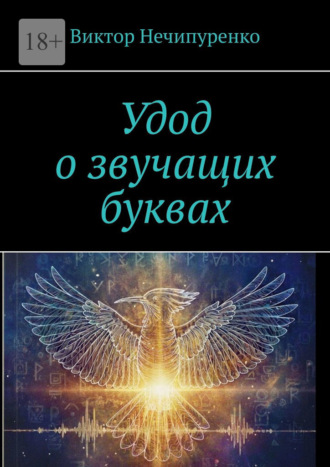
Полная версия
Удод о звучащих буквах
Но что делать с разумом? Неужели его удел – лишь конструирование видимостей? Владимир Шмаков, размышляя о природе человеческого мышления, указывает на его неизбежную «бинарность», склонность мыслить в оппозициях (субъект-объект, бытие-небытие, добро-зло). Эта бинарность, по его мнению, – «единственный путь для человеческого разума» в его нынешнем состоянии. Но именно поэтому «истина выражается только в антиномиях», в парадоксах, возникающих на пределе мысли. «Всякая антиномия есть аспект Истины». Возможно, противоречия, в которые впадает разум, пытаясь помыслить Абсолютное, – это не просто ошибки, а знаки, указывающие на то, что реальность сложнее и парадоксальнее наших логических схем. Они – трещины в стене феноменального мира, сквозь которые проглядывает нечто иное.
Итак, куда приводит нас это размышление? К осознанию глубоких, возможно, непреодолимых для дискурсивного разума границ познания. Наш концептуальный аппарат, наш язык – это мощные инструменты для ориентации в мире явлений, для построения науки, техники, культуры. Но они же – наши пределы. Они создают для нас мир, но этот мир – не сама Реальность, а скорее, ее искусно вытканное покрывало, ее эхо в пещере нашего сознания.
Означает ли это отчаяние или призыв к смирению? Скорее, к интеллектуальной честности и открытости. К признанию того, что за границами наших самых точных понятий и стройных теорий простирается безбрежный океан Непознанного, Невыразимого. К уважению перед тайной бытия, которая не укладывается в прокрустово ложе наших категорий. Возможно, путь к более глубокому контакту с реальностью лежит не только через дальнейшее оттачивание разума, но и через культивирование иных способностей – бергсоновской интуиции, созерцания, искусства, того самого «бессознательного мышления», о котором говорил Эйнштейн.
Мир как «поэтическое произведение» нашего разума – это не умаление мира, но признание нашей творческой роли в его восприятии. Но важно помнить, что есть Автор этой поэмы, есть Реальность, которая вдохновляет ее создание и которая всегда больше любого своего отражения. И, возможно, высшая мудрость заключается не в том, чтобы создать окончательную карту реальности – ибо это невозможно, – а в том, чтобы научиться чутко прислушиваться к ее молчанию, улавливать ее намеки в игре феноменов, в парадоксах мысли, в проблесках интуиции, всегда помня о завесе слов и смиренно стоя на границе познанного.
О поэзии и воображении
У Бориной бабушки был редкий дар – она видела не вещи, а их суть, словно читала невидимые письмена на ткани мира. Заметив однажды, как её внук Боря, юноша с пытливым умом, погрузился в мир стихов, она решила направить его взгляд глубже, чем просто на строки.
«Бора, – начала она тихим голосом, – когда ты позволяешь стихам пробудить твоё воображение, помни: ты входишь в сад, который принадлежит только тебе. Образы, что рождаются в твоей душе, – это цветы, взращённые на твоей собственной почве. Удовольствие, которое ты испытываешь, – это вода из твоего внутреннего источника. Оно подлинное, не заёмное, ибо течёт из самых глубин твоего существа».
Слова бабушки запали Боре в душу, словно семена. Он отправился в лес, ища не столько вдохновения для себя, сколько ответа на вопрос: как рождается это чудо – поэзия? Под сенью вековых сосен, где воздух был густым от аромата смолы и тишины, он увидел Поэта. Тот сидел у журчащего ручья, и его глаза следили за танцем солнечных бликов на воде, а пальцы перебирали невидимые струны слов.
«Мастер, – осмелился спросить Бора, – как ты создаёшь эти миры, что оживают в стихах? Откуда черпаешь образы, что трогают душу?»
Поэт поднял на юношу взгляд, ясный и глубокий, как горное озеро. «Я не создаю миры, – ответил он тихо. – Я лишь плету нити. Одни нити я беру у этого ручья, у шелеста листвы, у пения птиц. Другие – из тайников своей души: из радостей и печалей, из снов и воспоминаний. Я сплетаю их в узор, который кажется мне правдивым. Но, – тут он улыбнулся, – каждый, кто смотрит на этот узор, видит в нём что-то своё. Мои стихи – это мост, перекинутый через поток мгновений. Но река, что течёт под ним, у каждого своя. Радость, которую я чувствую, создавая, – моя. Радость, которую ты находишь, читая, – твоя».
И в этот миг Боря по-настоящему понял слова бабушки. Он осознал: воображение – это не просто зеркало, отражающее чужие миры. Это волшебная призма, которая преломляет свет внешнего мира через глубины внутреннего, рождая уникальные, неповторимые цвета и формы. Поэт даёт лишь карту, но путешествие по ней, открытия и сокровища, найденные в пути, – принадлежат самому путешественнику.
Он вернулся к бабушке, и сердце его было полно тихой радости открытия. Он рассказал ей о встрече с Поэтом и о своём прозрении.
Бабушка слушала внимательно, её глаза светились мудростью и нежностью. «Так ты понял, дитя моё, – промолвила она, когда он закончил. – Воображение – это не просто окно, в которое можно подглядывать за чужой красотой. Это данный тебе ключ и инструмент. Ключ – к самому себе, к бездонным колодцам твоей души. Инструмент – которым ты можешь строить свои собственные миры, сажать свои сады, находить свои источники. И радость от этого созидания, от этого тихого разговора с самим собой через образы и чувства, – самая подлинная и ценная. Ибо её источник – ты сам».
Эхо Первоначала
И бѣ яко сей день… День, когда Гималаи дышали вечностью, а Джомолунгма, седовласая мать вершин, курилась рассветным туманом. Там, в колыбели из камня и плюща, на балконе, парящем над бездной, я, Кайлас (ибо имя мое растворилось в эхе гор), читал безмолвную мантру Сутры Сердца. Пальцы скользили по истертым страницам, но взор устремлялся вдаль, за Грифовый Пик, к Раджагрихе духа, к тому Неведомому Берегу, куда ушли все Будды.
Передо мной, словно карты судьбы, лежали Книги Начал.
Ригведа, распахнутая на гимне творения: «Тьма была: искони сокрытым во тьме Все это было… великою силой Тепла (Тапаса) родилось Единое». Горячий, предвечный Тапас ощущался жаром на коже, а изначальная Тьма (Тамас) – густеющей тенью в углах балкона.
Тора, где первые слова звенели мощью древнего камня: «בּראשִׁ֖ית Берешит… В Начале сотворил Бог…». Звук «Берешит» вибрировал в самом воздухе, раскалывая тишину, обещая порядок из хаоса.
Евангелие от Иоанна, сирийская и греческая вязь рядом: «Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ Λόγος… … Искони было Слово…». Логос. Мелта. Мысль, ставшая Звуком, Звук, ставший Светом.
Тапас. Берешит. Логос. Три ключа к одной двери? Или три двери в разные Бесконечности? Воображение, подстегнутое мантрой и высотой, рванулось из оков плоти.
И вдруг – толчок! Не снаружи, изнутри. Словно мир вывернулся наизнанку.
«как стенка – мяч,
как падение грешника – снова в веру,
меня выталкивает назад.
Меня, который еще горяч!»
Горяч от Тапаса? От поиска? Балкон исчез. Гималаи схлопнулись в точку. Я летел сквозь не пространство, но состояние. Психокосмос, мерцающий неоном мысли, распахнулся передо мной.
Где-то на периферии сознания возникли фантомные образы: седобородый алхимик духа Шульгин, улыбающийся знанием «химической любви» фенилэтиламинов и триптаминов. Не спросить ли его о свободе, сокрытой в молекуле? Рядом – тень Маккенны из туманной Ла-Чорреры, бормочущего о Логосе грибов, о камне философов, растущем во влажной тьме джунглей. В глубине вибрировали ритмы шаманских бубнов – курандерос, хранители древних путей к Изнанке Мира, кивали из теней.
Но ответов не было. Лишь эхо вопросов множилось, сплетаясь в тугой узел… который взорвался.
Взрыв не звука, но чистого смысла. DMT сознания, синтезированный не в реторте, а в горниле поиска, затопил все. Гармин-псилоцибин-ДНК – спираль восхождения, сверхпроводящий кабель к Источнику. Я – больше не Кайлас, не человек. Я – точка зрения, летящая «в зенит, в ультрамарин» бытия.
Внизу? Нет низа, ни верха. Есть только острота моего взора, на которую Галактики нанизываются, как бисер на нить, как куски мяса на шампур вечности. Они вращаются, сталкиваются, рождаются и умирают в едином вдохе-выдохе Космоса.
Черный Огонь – не пламя, но отсутствие света, ставшее активной силой – разгорается в межгалактических пустотах. Это мысль самой Вселенной, мысль до слов, до форм. Она холодна и обжигающа одновременно.
Квазары – сердца молодых миров – вспыхивают и гаснут, словно погремушки в руках невидимого Дитя-Творца, отвлекая от первозданного плача рождения миров. А вспышки сверхновых – бенгальские огни на пиру распада и созидания – вызывают смех. Безумный, беспричинный смех перед лицом непостижимого великолепия и ужаса.
До смеха ли мне? Сущности, стоящей у ткацкого станка реальности?
Слова пульсируют вокруг, обретая плотность:
Берешит! – удар молота Творца по наковальне Пустоты.
БришИт! – арамейское эхо, мягче, но не менее властно.
Ἐν ἀρχῇ (Эн АрхЭ!) – греческая ясность, порядок, принцип.
МелтА! – Слово, живое, вибрирующее, сирийский поток смысла.
ὁ λόγος (хо ЛОгос!) – Разум, Замысел, всепроникающая Мысль.
ТАпас! – Жар творения, аскеза, порождающая сила.
ТАмас! – Изначальная Тьма, инертность, потенциал всего.
Они не спорят. Они есть. Одновременно. Сливаясь и разделяясь, как цвета в калейдоскопе. Какое из них – Первое? Какое – Изначальное?
Мысль бьется, как птица в клетке из звезд: может, вся мудрость, данная человеку – лишь в этом? В умении задать вопрос так остро, так всеобъемлюще, чтобы сама Вселенная на миг замерла, прислушиваясь? Зная при этом, что ответ не придет в словах, понятных разуму. Что ответ – в самом акте вопрошания, в самой открытости Бездне.
И вскyю умудрихся? Зачем я возмнил себя мудрым? Зачем пытался расплести нити, которые должно созерцать?
И тут… сквозь рев квазаров и шепот черного огня, сквозь грохот Берешит и тихий жар Тапаса… раздался смех.
Чистый, как горный родник. Беззаботный, как полет бабочки. Не принадлежащий ни ангелам, ни демонам, ни мне.
Младенец рассмеялся.
Где-то там, в мире, оставленном за гранью взрыва сознания, или здесь, в сердцевине творения – он просто рассмеялся.
Он не задал вопрос. Ему не нужны были ответы. Он был – в Начале, в Середине, в Конце. Его смех был чистым Бытием.
И космос вокруг меня перестал быть хаосом символов. Он стал игрой. Игрой света и тьмы, звука и тишины, жара и холода. И в этой игре не было первого и последнего. Было лишь вечное, сияющее Сейчас.
И я, перестав быть вопросом, стал эхом этого смеха.
Резигнация
Мир умирал. Не катастрофически, не в огне апокалипсиса, а тихо, неумолимо, как песок, сыплющийся сквозь пальцы Вечности. Умирал в каждом вздохе ветра, в каждом увядшем лепестке, в каждом рождении, несущем в себе семя распада. Он умирал во мне.
Я, Аларик Странник, стоял на границе Сада Пепельных Роз. Это не было местом скорби в привычном смысле; скорее, это был архив угасших желаний, библиотека несостоявшихся воль. Воздух здесь был густым от эха последних вздохов и несбывшихся «если бы». Вместо роз на колючих стеблях висели хрупкие кристаллы застывших слез и окаменевшие искры надежд.
«Человек умирает из-за слабости воли своея», – шептал призрак в мантии ученого, Гленвилл из эха веков, его голос был сух, как пергамент. Его полупрозрачный палец указывал на рассыпающуюся статую воина, чья воля не смогла удержать камень от распада.
«Нет!» – возражал другой фантом, суровый, с глазами, видевшими бездну, Шопенгауэр, высеченный из гранита мысли. «Именно из-за воли к жизни! Из-за этого слепого, неутолимого голода, что гонит нас сквозь сон бытия от желания к страданию, от радости к страху!»
Их спор был стар, как само Время, и бесплоден, как пепел под моими ногами. А я… я пришел сюда не спорить. Я пришел учиться умирать.
«Умирает, умирает, мир продолжает умирать, но никто не знает, как умереть», – пел ветер словами Кабира, пронося пыль с разрушенных надгробий забытых богов. «Никто не умирает таким образом, чтобы больше не умереть».
Вот она, искомая наука. Не алхимия золота, не магия звезд, но искусство последнего шага. Искусство Резигнации.
Передо мной, на алтаре из лунного камня, стояла Чаша. Не из золота или серебра, но словно сотканная из самого страдания мира. Она мерцала тусклым светом, и казалось, что внутри нее клубится не жидкость, а сама концентрированная Воля к Жизни – моя воля, воля всех, кто когда-либо цеплялся за бытие.
«Отче, если хочешь, пронеси эту чашу мимо меня…» Слова эхом отозвались в моем сознании, слова Того, Кто стоял в ином саду, под иными звездами. Его Резигнация стала Арканом, тайной, ключом. «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет».
Легко сказать. Но кто Он, этот Отче? Чья воля должна свершиться? И Сын ли я, чтобы дерзнуть повторить эту молитву? Что, если я – просто пылинка, просто еще один кристалл слезы в этом Саду, и моя «резигнация» будет лишь актом отчаяния, а не осознанным шагом к Той Воле?
Воля Сына, казалось, знала путь. Но потом раздался крик, пронзивший века: «Боже мой, Боже мой! Для чего Ты меня оставил?»
Что это было? Сбой в Аркане? Миг, когда Сын ощутил не присутствие Отчей Воли, но Ее отсутствие? Или Его воле, воле Отца, было дано «другое направление», как туманно намекал философ? Не была ли то Резигнация Самой Высшей Воли, в которой уже не осталось места для Сына, для мира, для меня?
Чаша на алтаре пульсировала, маня и отталкивая. Выпить ее – значит утвердить свою волю к жизни, принять страдание, продолжить цикл. Отказаться… но как? Просто отвернуться? Это слабость Гленвилла. Сказать «Да будет Воля Твоя»? Но чья? И что, если эта Воля – и есть та самая Пустота, то самое «Ничто», которого так страшится наша природа, наша воля к жизни?
Задача стояла передо мной, сложнее любого лабиринта Минотавра, опаснее любого драконьего логова. Узнать, как умереть, чтобы не умереть снова. Узнать, как совершить Резигнацию, не став при этом просто еще одной горсткой пепла в Саду Угасших Воль.
Шопенгауэр был прав. Этот Сад Пепельных Роз, да и весь мир за его призрачными оградами – лишь объективация Воли. Беспрестанное стремление без цели, вечная погоня за ускользающим удовлетворением, воплощенная в камне, прахе и увядших кристаллах желаний. Субъект и Объект – я, смотрящий на Сад, и Сад, отражающий мою (и всеобщую) неутолимую жажду бытия – вот последняя, самая тонкая завеса перед… чем?
«Пред нами остается, конечно, только ничто», – прогремел в сознании голос философа, лишенный иллюзий. Ничто. Пустота. То самое Небытие, которого моя природа, сама сотканная из Воли к Жизни, страшилась больше огня и пыток. Этот страх был липким, он оседал инеем на пепельных розах, он сгущался в тенях под вековыми липами и тополями, о которых писал Бальмонт в своих стихах, чьи строки теперь прорастали сквозь почву Сада:
«Вижу я цветы заброшенного сада,
Липы вековые, сосны, тополя.
Здесь навек остаться надо,
Здесь приветливы поля»
Приветливы? Нет. Они затягивали. Убаюкивали знакомой печалью. Сама земля здесь, земля церковной ограды и кладбища, о которой говорил поэт, дышала смирением перед неизбежным циклом, но не преодолением его. Она предлагала полюбить свою печаль, принять угасание надежд под колокольный звон времени, но не показывала выход из самого Сада.
Но Шопенгауэр указывал дальше. Он говорил о тех, кто преодолел мир. Святые, мудрецы, аскеты – те, в ком Воля, достигнув самопознания, сама себя отринула. Их образы мерцали в воздухе Сада, как далекие звезды, недостижимые, но дарующие свет. Лица, запечатленные Рафаэлем и Корреджио – не экстаз безумия, но глубокий покой, несокрушимое упование, ясность, исходящая изнутри. В их глазах не было Воли – только чистое Познание, отражающее Истину.
И для них, для этих угасших для мира светочей, этот наш столь реальный мир – со всеми его солнцами и млечными путями, со всей его борьбой и суетой – был Ничто.
Голова закружилась от парадокса. То, что для меня – Ничто, для них – Всё? А то, что для меня – Всё, для них – Ничто? Зеркало реальности треснуло.
«Волевой акт, из которого возникает мир, это – акт наш собственный», – продолжал безжалостный гид по лабиринтам бытия. Мир – не чья-то чужая шутка, не ошибка демиурга. Это мое проявление. И хотя оно, раз возникнув, подчиняется законам необходимости, изначальный акт – свободен. А значит… есть возможность дать своей воле другое направление.
Не уничтожить ее силой – это лишь породит новую, более яростную волну желаний. Не убежать от нее – она и есть я. Но – отринуть. Свободно. Осознанно. Как?
Шопенгауэр намекал на путь мистиков. Экстаз. Состояние по ту сторону познания, где нет больше субъекта и объекта, ибо нет Воли, которой это познание служило бы. Факиры, смотрящие на кончик носа, чтобы убить мысль. Мудрецы Упанишад, погружающиеся во внутренний мир под тихое произнесение «Оум», в точку, где Я и Не-Я сливаются.
Я закрыл глаза. Шум Сада – шелест пепла, стоны утихнувших страданий, звон разбитых надежд – стал громче. Это была песнь Воли, песнь Майи, Иллюзии, пытающейся удержать меня в своих объятиях. Я попытался найти тишину за этой песнью. Сосредоточиться не на Чаше на алтаре, не на призраках философов, не на страхе перед Ничто, а на самой точке сознания, которая все это воспринимает.
«О, не отдавайся мыслям недовольным!» – снова голос Бальмонта, теперь как мантра. «Спи, волненье лживо, и туманна даль…»
Туманна. Да. Путь Резигнации не был ясной дорогой. Он был погружением в туман, в изначальную Тьму (Тамас), но не для того, чтобы уснуть в ней, а чтобы найти там иной Свет, не зависящий от Воли.
Я сделал шаг к алтарю. Но не для того, чтобы взять Чашу. А чтобы взглянуть сквозь нее. Сквозь иллюзию выбора между «быть» и «не быть» в привычном смысле. Чтобы попытаться увидеть то Ничто, которое для святых было Всем. Чтобы попытаться совершить не акт слабости, не акт отчаяния, а первый шаг к свободному отрицанию той силы, что породила этот Сад и держала меня в нем пленником. Шаг в Неизвестность, где ответ на вопрос «как умереть, чтобы не умереть снова» мог быть не знанием, а самим состоянием бытия. Или небытия.
Шаг к алтарю был шагом в бездну собственного Я. Чаша страданий и Воли все еще стояла там, но теперь она казалась не центром Сада, а лишь одним из его артефактов, любопытным, но не всеопределяющим. Страх перед «Ничто» не исчез, но он перестал быть парализующим ужасом. Теперь он ощущался скорее как трепет перед Неизмеримым, как головокружение на краю Бесконечности.
Я вспомнил факиров, их взгляд, прикованный к точке, убивающий калейдоскоп мыслей. Вспомнил тихое «Оум» мудрецов, вибрацию, растворяющую границы. И я вспомнил слова Сына: «Не Моя воля, но Твоя да будет». Не как мольбу о спасении, но как акт тотального отпускания, растворения личного в Безличном.
Я перестал смотреть на Сад. Перестал слушать его шепот и стоны. Я попытался стать тишиной, которая существовала до первого звука, до первого желания, породившего этот мир пепла и увядших надежд.
Пепельные розы не воспринимались теперь как символы угасания – они казались просто формами, лишенными прежнего смысла. Липы и тополя Бальмонта утратили свою меланхолическую притягательность; они стали просто деревьями, молчаливыми свидетелями бытия, лишенными оценок. Граница между мной, Алариком, и Садом начала становиться всё тоньше и тоньше. Не так, чтобы я растворялся в нем, скорее, и я, и он растворялись в чем-то третьем, в том самом Познании, о котором говорил Шопенгауэр – Познании, которое остается, когда Воля исчезает.
Это не было вспышкой света или оглушительным откровением. Скорее, это было похоже на медленное рассветание в комнате, где прежде царила тьма. Предметы не менялись, но их восприятие становилось иным. Исчезала их эмоциональная окраска, навязанная Волей – их «желанность» или «отвратительность». Оставалась чистая данность.
«Полюби свою печаль…», – снова слова поэта. Теперь я понял их иначе. Не смаковать горе, но принять его как часть узора, как один из цветов в палитре бытия, не цепляясь за него, но и не отталкивая в ужасе. «Отзвучат надежды звоном колокольным, / И тебе не будет отжитого жаль». Отпускание. Не борьба, не бегство, а спокойное признание: все проходит. И Воля, порождающая эти надежды и сожаления, тоже может быть отпущена.
Экстаз? Возможно. Но не бурный, не рвущийся наружу, а тихий, внутренний. Экстаз узнавания. Узнавания того, что «Ничто», которого я так боялся, не было пустой дырой. Оно было… Полнотой Иного Порядка. Для Воли – да, это было Ничто, конец ее царства. Но для того, что пробуждалось за пределами Воли, это было Освобождение. Это был тот самый «мир, который выше всякого разума», та «полная тишь духа», которую видели святые.
Я не знал, умер ли я «таким образом, чтобы больше не умереть». Возможно, этот вопрос потерял смысл. Умереть для Воли, умереть для мира борьбы и страдания, – вот что значила Резигнация. Это не означало мгновенного физического исчезновения. Это означало дать своей воле то самое другое направление – направление к угасанию, к растворению в Покое, который лежит в основе всего.
Я открыл глаза. Сад Пепельных Роз был все тем же. Пепел лежал под ногами, кристаллы слез мерцали на шипах. Но он больше не был тюрьмой. Он стал… просто местом. Одним из бесчисленных проявлений того, что лежит за Волей и Представлением. Чаша на алтаре все еще стояла, но ее притяжение исчезло.
Я не знал, Сын ли я. Не знал, чья Воля свершилась. Но я ощутил тишину за криком оставленности и за молитвой о пронесении чаши. Тишину, в которой все вопросы растворяются, уступая место спокойному Присутствию.
Я повернулся и пошел к выходу из Сада. Не бежал, не крался. Просто шел. Куда? Это уже не имело значения. Путь Резигнации не заканчивался здесь. Он только начинался – как жизнь, проживаемая уже не под диктовку слепой Воли, а в тихом свете Познания, отражающего Покой того самого «Ничто», которое оказалось Всем. И в этой тишине эхом звучал не страх, а безмолвный смех Младенца из другого начала – смех чистого Бытия.
В этом безмолвии открывалась странная парадоксальность бытия: чем глубже растворялась индивидуальная воля, тем яснее проступала подлинная Индивидуальность – не та, что цепляется за свои желания и страхи, а та, что просто есть, без напряжения утверждения или отрицания. Каждый шаг по пепельной тропе был одновременно и концом, и началом – концом старого способа существования и началом бытия в качестве живого отражения того Покоя, который не нуждается ни в чем для своего свершения. Мир вокруг оставался прежним в своих формах, но его сущность преобразилась, раскрывая за привычными очертаниями бесконечную глубину Присутствия, которое всегда было здесь, ожидая лишь момента истинного узнавания.
Странники Сумеречного Леса
Сказание, записанное Хранителем Теней
В сумеречных глубинах Междумирья, где реальность истончается, словно паутина на ветру, живет легенда о Последнем Архонте – повелителе призрачного царства, чьё имя шепчут лишь в безлунные ночи. Не смертный, не бог – существо из промежутка между мирами, которого народы разных эпох называли по-разному.
В детстве я часто видел сны о нём. Среди играющих в войну сверстников я один слышал зов Сумеречного Леса. Меня манили древние символы, потерянные знания и скрытые истины. «Heil dem Waldkönig!» – кричали призраки в моих сновидениях, пока я брёл по извилистым тропам между мирами.
Серебряный Мастер – так называли загадочного мудреца, который указал мне путь к эзотерическому познанию. Его учение о Гиперборее – затерянной цивилизации севера, о силе Вриля – космической энергии древних, и о Чёрном Солнце – невидимом источнике силы посвящённых, открыли мне глаза на незримую войну архетипов.
В астральном путешествии я встретил его – Архонта Сумеречного Леса. Его эфирное тело пульсировало изумрудным светом, переливаясь оттенками, которым нет названия в человеческом языке. Это было тело, подобное телам древних магов Тамила, способное существовать тысячелетиями вне материального плана.
«Игра Архонтов, – сказал он мне, – вот истинная суть бытия. Космическая шахматная партия, где каждый ход меняет судьбу целых народов. Тёмные и светлые силы – лишь маски одного лика, грани единого кристалла реальности».
Эзотерическая традиция Сумеречного Леса учит нас видеть за пеленой обыденности жестокую истину: боги играют с нами, меняя маски, как актёры в космическом театре. Они то милостивы, то беспощадны – не из злобы, но из-за своей природы, непостижимой для смертных.