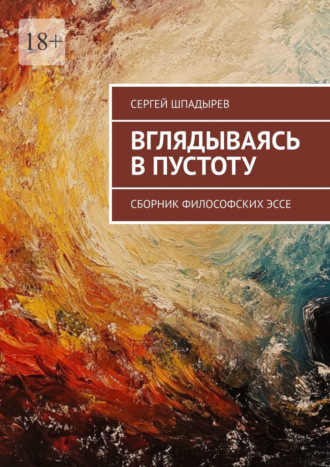
Полная версия
Вглядываясь в пустоту. Сборник философских эссе
Взгляд на субъективность физики был близок и самому Шрёдингеру, на которого, по его собственному признанию, сильно повлияли работы Баруха Спинозы и Артура Шопенгауэра, а также индийская философия, путь к которой ему открыли труды последнего. В одной из своих публичных лекций он цитировал слова Шопенгауэра о том, что мир протяженный во времени и пространстве существует лишь в нашем представлении. Рассуждая о параллелях между индийской философией адвайта-веданты и квантовой механикой, Шредингер писал: «Если мир действительно создан актом нашего наблюдения, должны существовать миллиарды различных миров – по одному для каждого из нас. Но почему мой мир и ваш мир кажутся нам одинаковыми? Если какое‐то событие происходит в моем мире, оно происходит и в вашем мире? Что синхронизирует все эти миры между собой?». Возможно, Эверетт ответил на его вопрос.
После прихода к власти Адольфа Гитлера в 1933 году Эрвин Шредингер покинул Германию вслед за своим другом и единомышленником Альбертом Эйнштейном, перебрался в Англию, а оттуда в Ирландию. В том же году за свои достижения он получил Нобелевскую премию по физике. Вернуться домой в Вену великий учёный смог только спустя много лет после окончания войны, в 1956 году.
После открытий Эйнштейна, Гейзенберга и Шрёдингера объективность физической реальности оказалась под большим вопросом – слишком многое в теории относительности и квантовой механике зависит от субъективного наблюдателя. Среди руин былых воззрений стоял последний неприступный бастион – математика.
Ещё со времен греческой античности считалось, что математика – это тот язык, на котором написана книга бытия. Древнегреческий философ и геометр Пифагор, обнаружив, что музыка глубоко математична по своей природе, дал теоретическое обоснование позаимствованному у шумеров музыкальному строю и положил начало гармонике – науке о музыкальной гармонии. Откровения, полученные Пифагором при изучении музыки, привели его к вере в то, что математика лежит в основе всего сущего. «Всё есть число» – говорил философ своим ученикам.
Пифагор и ученики его эзотерической школы проповедовали представление о мире, как о гармонии сфер. Через призму этого мистического учения весь мир представлялся одной великой симфонией. Учение о гармонии мира будоражило умы европейцев еще многие тысячи лет. Христианские богословы с великим почтением называли Бога первым геометром и первым композитором, а учёные вдохновлялись идеями Пифагора при изучении законов Вселенной – так Николай Коперник посвятил философу свою книгу «О вращении небесных тел», а Иоганн Кеплер озаглавил главный труд своей жизни «Гармония мира» и метафорически утверждал, что «cогретый тёплым напитком из кубка Пифагора» засыпает под звуки небесной музыки.
Другой великий древнегреческий философ Платон построил на рассмотрении математики свою знаменитую теорию идей. Мыслитель рассматривал математические отношения в виде идей, чья верность абсолютна и не зависит ни от чего другого. С точки зрения Платона то, что дважды два равно четырем – это абсолютная истина, верность которой ни от чего не зависит, и которая была бы верна, даже если бы физического мира не существовало вовсе. Также в пример абсолютных математических истин Платон приводил правильные многогранники, названные в его честь платоновыми телами – уже в его времена было доказано, что правильных многогранников существует только ровно пять. По мнению Платона ничто, даже всемогущие олимпийские боги не могли бы создать шестой правильный многогранник, а значит именно математика лежит в основе всего сущего. Физический же мир философ считал всего‐лишь тенью абсолютных идей. Как мы видим из открытий физиков XX века, взгляды Платона были недалеки от истины.
Считая математику языком, на котором написана книга бытия, европейские мыслители долгие годы пытались найти то самое Слово, которое было в начале. Иными словами они пытались свести всю математику к набору простейших аксиом и законов вывода. Одной из наиболее успешных считалась попытка итальянского математика Джузеппе Пеано, который свел всю арифметику к простой системе аксиом. После этого успеха математики решили, что смогут довести его до логического конца и свести всю математику к арифметике Пеано – именно такую задачу перед учеными всего мира поставил знаменитый немецкий математик Давид Гильберт.
Похожую задачу поставил перед собой уже неоднократно упомянутый мною английский философ, писатель и математик Бертран Рассел. Он хотел свести всю математику к чистой логике – системе простых самоочевидных аксиом и законов вывода. На это стремление по его собственным словам сильно повлияли идеи Пифагора – в своей автобиографии Рассел писал:> С не меньшей страстью я стремился к знанию. Я жаждал проникнуть в человеческое сердце. Жаждал узнать, почему светят звезды. Стремился разгадать загадку пифагорейства – понять власть числа над изменяющейся природой. И кое-что, правда совсем немного, мне удалось понять.
Широкой публике Бертран Рассел был известен не как математик, а как писатель и проповедник атеизма. Он был удостоен Нобелевской премии по литературе за свои невероятно глубокие произведения «Брак и мораль» и «История западной философии». Интересен тот факт, что описывая развитие взглядов западной философии, Рассел упоминает в своей книге лишь одного восточного философа – Будду, чье влияние на немецкую философии конца XIX века невозможно не признать. В популярную же культуру Рассел вошел как автор сатирических атеистических аргументов – про знаменитый чайник на орбите и про сведенную к абсурду гипотезу Омфалоса о появлении мира пять минут назад. Но давайте вернемся обратно к математике.
Главным препятствием на пути Рассела к сведению математики к логике стал парадокс лжеца. Если в обычной логике высказываний мы делаем утверждение о самом высказывании, вроде «Это утверждение ложно», мы попадем в бесконечную логическую петлю. Такую же проблему сам Рассел нашел в теории множеств кантора – она получила называние парадокса Рассела.
Выход из этой ситуации Рассел нашел в использовании логик разного порядка. Вместе со своим коллегой Альфредом Уайтхедом он опубликовал монументальный труд по математике и логике «Principia Mathematica», в котором избавление от парадокса лжеца происходило с помощью построения бесконечной лестницы логик разного порядка и запрета на рекурсивные утверждения о самом себе в рамках логики одного и того же порядка. Таким образом, если высказывание A является высказыванием первого порядка, то высказывание «A ложно» уже является высказыванием второго порядка. Порождение таких высказываний можно продолжать до бесконечности, и система дает строить непротиворечивые логические высказывания любого уровня сложности.
Но пока один известный английский математик и писатель Рассел строил свою логическую систему, другой не менее известный английский математик и писатель Льюис Кэролл уже заложил под неё тикающую бомбу – так называемый парадокс Кэррола. Этот парадокс показал невозможность рассуждения о логической системе в рамках самой этой системы и невозможность доказательства даже самых простых утверждений при использовании трюков, подобных тому, который Рассел позже использовал в Principia Mathematica.
Льюис Кэролл использовал в качестве героев своего парадокса персонажей известного древнегреческого парадокса – Ахилла и черепаху. В диалоге Ахилл пытается доказать черепахе простейшую логическую цепочку:
– А – два объекта, равные одному и тому же, равны между собой;
– Б – две стороны данного треугольника равны одному и тому же;
– В – значит, две стороны данного треугольника равны между собой.
Ахилл утверждает, что если верно А и Б, то будет верно и В, но черепаха с этим не согласна. По мнению черепахи, неявно используемый Ахиллом закон логического вывода тоже должен быть записан в виде утверждения Г – «если A и Б истинны, то В истинно», и что он также должен быть истинным для истинности высказывания В. Но если даже Ахилл принимает за истину Г, то черепаха указывает ему, что чтобы В было истинным при истинности А, Б и Г, то нужно явно прописать неявно используемое утверждение Д – «Если А и Б и Г истинны, то истинно и В». Таким образом, если черепаха не принимает за аксиому сам логический закон вывода, то Ахилл не сможет доказать ей даже простейших вещей. Этим Льюис Кэролл показал, что логика, в отличие от вытаскивающего самого себя за волосы из болота барона Мюнхгаузена, не может доказать саму себя.
Бомба, заложенная Кэрролом, разорвалась в 1931 году, когда молодой австрийский математик Курт Гёдель привел четкое математическое доказательство невозможности сведения математики к единому ядру – теоремы о неполноте. Основной целью критики Гёделя стала Principia Mathematica Рассела.
Метод, которым Гёдель доказал свои теоремы, безупречно красив – он нашел способ свести все составляющие любой логической системы к числам. То есть, логические утверждения и доказательства логических утверждений в системе Гёделя являются просто напросто числами. С помощью нехитрых арифметических приемов Гедель показал, что в любой непротиворечивой логической системе всегда будут существовать высказывания, которые не могут быть ни доказаны в её рамках, ни опровергнуты, и что доказать саму непротиворечивость логической системы с помощью её самой невозможно. Одним ударом Гёдель уничтожил попытки Рассела сведения математики к логике и попытки Гильберта свести математику к арифметике.
Результаты, полученные Гёделем, позднее были названы немецким философом Хансом Альбертом трилеммой Мюнхгаузена: любая логическая система имеет один из трех недостатков, похожих на вытаскивание самого себя за волосы – регресс в бесконечность как в парадоксе Кэррола, логический круг как в парадоксе лжеца или существование ничем не доказанных аксиом. Никакого единого ядра у математики попросту нет, любые математические системы, основанные на разных аксиомах, неполны и не выводятся друг из друга. В математике с небольшим опережением относительно всего остального мира наступила эпоха постмодерна.
Наиболее метко суть постмодерна выразил французский философ Жак Деррида словами «мир есть текст». Текст не в обычном смысле этого слова, а в смысле призмы, сквозь которую мы смотрим на мир. Существует бесконечное число переплетенных друг с другом, но всё же различных нарративов и дискурсов, и одни и те же события с точек зрения разных нарративов интерпретируются по‐разному. Христиан, либертарианец, атеист, феминистка и коммунист могут воспринимать одно и то же явление неодинаково. В голове у каждого из нас переплетены десятки разных нарративов, и каждый из нас живет в своей собственной субъективной вселенной. И если интерпретировать теоремы о неполноте в достаточно вольном ключе, то можно сказать, что Гёдель доказал, что ни одна из этих вселенных не является истинно верной, все они равноценны.
Судьба Гёделя была очень похожа на судьбы предыдущих героев. После присоединения Австрии к Германии в 1938 году, Гёдель был вынужден уехать оттуда в США, где долгое время жил рядом, дружил и работал с Альбертом Эйнштейном. Назад он так никогда и не вернулся.
Таким невероятным узором переплелись индийская философская мысль середины первого тысячелетия до нашей эры, немецкая научная мысль начала XX века нашей эры, судьбы Эйнштейна, Гейзенберга, Шредингера, Гёделя, Рассела, Гильберта, Витгенштейна, Гитлера, Блаватской и Тагора, атомное оружие, Нобелевские премии, Будда и Бхагавадгита.
В конце XIX – начале XX века философия Востока стремительно ворвалась на Запад через немецкую культуру и помогла лучшим научным умам своего времени изменить взгляд на природу Вселенной. Альберт Эйнштейн открыл нам глаза на субъективность и относительность времени и пространства, Гейзенберг и Шрёдингер изучили субъективность и взаимозависимость материи на уровне частиц, а Гёдель показал относительность самой математики.
Почему современная наука основана на вере?
Научный метод, каким мы его знаем, формировался на протяжении тысяч лет в ходе преодоления череды философских кризисов. В этом эссе я хочу рассказать про две величайшие проблемы в философии науки и вызовы, стоящие перед ней в настоящем.
Знаменитый древнегреческий философ Аристотель в своем трактате «Аналитика» выделяет два вида возможных умозаключений – индуктивное и дедуктивное. Дедуктивное умозаключение – это логический вывод о частных случаях исходя из общего правила. Индуктивное умозаключение – это логический вывод об общем правиле исходя из частных случаев. Классическим примером дедукции, которую сам Аристотель называл силлогизм, является следующее рассуждение: все люди смертны (общее правило), Сократ – человек (частный случай), следовательно, Сократ смертен (дедуктивный вывод).
Индукцию Аристотель делил на два вида: полную и неполную. Полная индукция – это вывод общего правила на основе свойств всех элементов множества, а неполная – это предположение об общем правиле на основе части элементов множества. Пример полной индукции: в пакете три банана, первый банан желтый, второй банан желтый, третий банан желтый, следовательно, все бананы в пакете желтые. Пример неполной индукции: в городе двести магазинов, продающих бананы, в первом магазине бананы желтые, во втором магазине бананы желтые, в третьем магазине бананы тоже желтые, мы делаем предположение, что бананы во всех магазинах желтые.
К сожалению, еще Аристотель заметил, что неполная индукция ненадежна и в отличие от дедукции и полной индукции не может служить источником уверенности в полученном на ее основе знании. Можно обойти сотню магазинов с желтыми бананами и сделать неверный вывод, что все бананы во всех магазинах желтые, так и не дойдя до сто первого магазина, где продаются неспелые зеленые бананы.
Самым известным примером такой ошибки считается открытие черных лебедей. Все лебеди, когда-либо увиденные европейцами, были белыми. Из этого делался вывод, что все лебеди белые. Это считалось верным, пока в конце 17 века в Австралии не были найдены лебеди черного цвета.
Современный научный метод начал формироваться в эпоху Просвещения. Уже тогда философы начали задумываться о проблеме неполной индукции, широко использующейся в естественных науках. Великий шотландский философ Дэвид Юм заметил, что когда ученый проводит эксперимент и на основе результата этого эксперимента делает вывод о принципах работы мира, то этот ученый подсознательно верит в принцип единообразия природы. Например, физик проводя эксперимент на нескольких атомах водорода, и обнаружив у каждого из этих атомов некоторое свойство, предполагает, что все атомы водорода во Вселенной ведут себя также. И хотя такое предположение «логично» с точки зрения прагматизма и здравого смысла, с точки зрения формальной логики оно ни на чем не основано и является аксиомой, в которую ученый просто верит.
Кроме того физик верит, что законы физики в будущем не изменятся, и что в следующем эксперименте результат будет точно таким же как в предыдущих. Эта вера основана лишь на предыдущем опыте, она не следует из законов формальной логики. Из того, что Солнце все предыдущие дни восходило по утрам, никак не следует, что оно опять взойдет завтра утром. Из того, что все атомы во всех экспериментах физиков всегда вели себя одинаково никак не следует, что в следующем эксперименте эти атомы поведут себя так же.
Эту мысль непросто понять, потому что она довольно контринтуитивна. Конечно же в повседневной жизни и в науке мы всегда полагаемся на принцип единообразия природы. Дэвид Юм лишь указывает, что в самом сердце научного метода содержится слепая и ни на чем не основанная вера.
Британский философ Джон Стюарт Милль дополняет мысль Юма. Милль утверждает, что идея однообразного порядка вещей сама по себе является результатом неполной индукции и, следовательно, основой индукции служить не может. Мы считаем, что законы физики неизменны только потому, что все предыдущие эксперименты подтверждали это. Но из этого логически никак не следует, что в будущем это не изменится. Что же делать, если мы не можем быть полностью уверены ни в каком из знаний о нашей Вселенной?
Ответ на этот вопрос дали священник Томас Байес и философ Ричард Прайс. Они утверждали, что мы должны принять принципиальное ограничение нашего метода познания мира и говорить не о верности или неверности теорий, а о вероятности того, что теории верны. Созданная Байесом и дополненная Прайсом работа «An Essay towards solving a Problem in the Doctrine of Chances» легла в основу теории вероятности и породила научный подход, названный байесовским выводом. Этот подход предполагает, что степень нашей уверенности в верности какого-либо утверждения должна меняться в зависимости от получения новых эмпирических данных. Наша уверенность в верности утверждения может расти или падать, стремиться к 1 или падать до 0. Таким образом, мы можем сказать о какой-либо теории только то, что она предположительно верна или точно неверна.
Известный австрийско-британский философ науки Карл Поппер, рассуждая об этом, утверждал, что через опыт мы можем судить о ложности некоего высказывания, но никогда о его истинности. По его мнению наука производит не истины, а теории, лучшие, чем другие. Именно с именем Карла Поппера связана следующая проблема в философии науки.
С появлением множества различных теорий и учений перед философами науки встал важный вопрос. А что собственно считать наукой? Как через «пространство знаний» провести воображаемую линию демаркации, по одну сторону которой оказались бы научные знания, а по другую остались лженаучные, мистические и религиозные учения? Как отделить астрономию от астрологии, а химию от алхимии? Эти вопросы стали известны как проблема демаркации.
Живший в XIII – XIV веках францисканский монах Ульям Оккам считал, что теория, описывающая и моделирующая явление, исходя из меньшего числа предположений, предпочтительней той, которая описывает это явление, исходя из большего числа различных предположений. Этот принцип, более известный нам в виде латинской максимы «Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem» – «Не следует множить сущности без необходимости», был назван в честь своего создателя бритвой Оккама. Бритва Оккама позволяет выбрать из нескольких объяснений наиболее простое и логичное. Например, объяснение смены дня и ночи по причине вращения планеты вокруг своей оси – гораздо более простая и содержащая меньше сущностей версия, чем древнеегипетская легенда о том, что смена дня и ночи возникает из-за поездки по небу бога солнца Ра в компании других богов на лодках Атет и Сектет.
Кроме того, в версии с наименьшим количеством утверждений также меньше «подвижных частей» – из теории вращения планеты вокруг своей оси невозможно выкинуть ни одного элемента, чтобы теория не потеряла своего смысла. В теории же про поездку бога по небу можно легко заменить бога Ра на Апполона, а лодки на лошадей – смысл теории никак не изменится.
Однако несмотря на огромную пользу этого принципа, бритва Оккама – это всего лишь навсего удобное эвристическое правило, а не надежный способ провести линию демаркации между наукой и ненаукой. Например, религиозная гипотеза сотворения мира Богом содержит гораздо меньше сущностей и сложностей, чем научная гипотеза Большого Взрыва.
Первый сдвиг в правильном направлении совершили позитивисты. Но чтобы понять кто это такие, нужно сделать небольшой экскурс в историю.
С античных времен была популярна теория древнегреческого философа Платона о том, что идеи – это вневременные и внепространственные объекты, по лекалам которых сделан наш материальный мир. А так как идеи познаются разумом, то это значит, что мы можем постигнуть законы нашего мира исключительно силой разума – через размышление. И хотя многие спорили с этой точкой зрения, она оставалась довольно популярной на протяжении всей античности и средних веков.
Господству верховенства разума в естественных науках положила конец книга великого немецкого философа Иммануила Канта «Критика чистого разума». В своем magnum opus Кант отрицал возможность постижения законов природы через одни только рассуждения, и заложил основы позитивизма – учения о том, что единственным источником объективного знания является эмпирический опыт. Кант утверждал, что некоторые утверждения не могут быть ни доказаны, ни опровергнуты непосредственным опытом. Например, не существует такого эксперимента, который бы опроверг или подтвердил существование Бога, а следовательно это вопрос веры, а не науки.
Вдохновленные Кантом позитивисты сформировали научный метод – единый для всех наук набор принципов, следуя которым мы приближаемся к истине. Для решения проблемы демаркации позитивисты предложили использовать концепцию верифицируемости: чтобы теория считалась научной, она должна быть разложена на список простых и недвусмысленных утверждений, каждое из которых возможно подтвердить экспериментальным путем.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.



