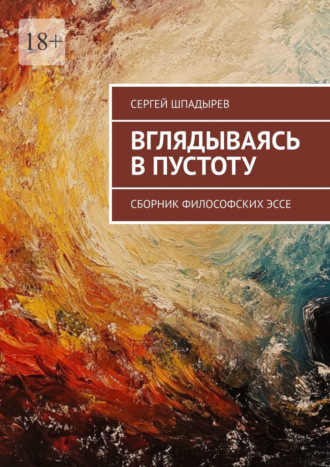
Полная версия
Вглядываясь в пустоту. Сборник философских эссе

Вглядываясь в пустоту
Сборник философских эссе
Сергей Шпадырев
Посвящается Александру и Маргарите – моим путеводным звёздам, что освещают мою жизнь и придают ей смысл.
Иллюстратор Сергей Шпадырев
© Сергей Шпадырев, 2025
© Сергей Шпадырев, иллюстрации, 2025
ISBN 978-5-0068-0283-4
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
Вступление
Здравствуй, дорогой читатель!
Книга, которую ты сейчас держишь в руках, представляет собой сборник из десятков философских эссе и заметок, написанных мною в течение пяти лет: с 2020-ого под 2025-ый годы. Некоторые из представленных здесь текстов вошли в сборник почти без изменений, другие же были переработаны специально под эту книгу. Эти эссе при своём выходе в свет были прочитаны десятками тысяч людей и вызвали долгие и жаркие дискуссии в комментариях. Каждое эссе посвящено своей собственной теме, но эти темы частично пересекаются друг с другом – так что не обессудь, читатель, если одни и те же мысли встретятся тебе по ходу повествования несколько раз.
Автор ли я всех этих эссе и заметок? Не уверен. Мне помогали писать Пифагор, Сократ, Лао-Цзы, Платон, Будда, Зенон, Чжуан Чжоу, великие каппадокийцы, Иммануил Кант, Рене Декарт, Фома Аквинский, Готфрид Лейбниц, Томас Гоббс, Ульям Оккам, Карл Поппер, Фридрих Ницше, Артур Шопенгауэр, Георг Гегель, Дэвид Юм, Нагарджуна, Бертран Рассел, Фёдор Достоевский, Эрвин Шрёдингер, Альберт Эйштейн, Людвиг Витгенштейн, Курт Гёдель, Виктор Франкл, Рабиндранат Тагор, Вернер Гейзенберг, Алан Уотс, Джон Уилер, Жак Деррида, Дэвид Чалмерс, Хью Эверетт, Жан Бодрийяр, Дуглас Хофштадтер, Дэвид Дойч, Макс Тегмарк, Стивен Вольфрам и многие другие. По отношению к этим текстам, я занимаю почти ту же самую позицию, которую по отношению к ним занимает клавиатура, на которой они печатались. Я – не более чем инструмент, с помощью которого они были созданы. Приёмник, принявший и обработавший сигнал, исходящий из окружающего меня мира. Но кто же тогда их истинный автор? Никто. И всё сущее одновременно.
В книге разбирается множество глубоких и противоречивых вопросов философии. Откуда появилась Вселенная? Что такое сознание? Лежит ли материя в основе всего? Обладаем ли мы свободой воли? Существует ли Бог? На чём основаны этические системы? Открываем ли мы математику или придумываем? В чём смысл жизни? Существует ли душа? Что такое личность? Есть ли чувства у бактерий? Чем Вселенная похожа на клеточный автомат? Реальны ли духи? На некоторые из этих вопросы я привожу свои ответы, на другие делаю исторический обзор взглядов различных философских школ и направлений, третьи и вовсе остаются без ответа, но стоят того, чтобы быть заданными. Мои собственные убеждения и предпочтения в течении этих пяти лет тоже сильно менялись, поэтому не обессудь, читатель, если некоторые мысли в этой книге буду противоречить другим. Ведь единственный истинный ответ на все эти вопросы – сама жизнь, само наше существование.
Мой интерес к философии проснулся в самые мрачные годы моей жизни – годы потерь, болезней, лишений. Философия стала для меня путеводным светом, рассеивающим этот мрак. Размышления над философскими вопросами, поиск ответов на них и анализ взглядов различных мыслителей расширили горизонты моего сознания и привели меня к созерцанию бесконечного величия и неописуемой красоты Вселенной. Как писал Теренс Маккена, чем ярче разгораются костры знания, тем больше тьмы открывается нашим изумлённым глазам. Так давайте же разведём костёр…
Часть 1: Эссе
Cознание – величайшая загадка Вселенной
В какой‐то момент жизни большинство людей задается вопросами вроде «Почему я существую?», «Почему есть что‐то, хотя могло ничего не быть?», «Откуда появился наш мир?». С древних времен философы и ученые пытаются найти ответ на эти вопросы, а проповедники утверждают, что нашли единственно верный.
На первый взгляд кажется, что это самые сложные из всех возможных вопросов, однако это не так. Несмотря на сложность, а иногда даже и полную невозможность проверить истинность определенного ответа на эти вопросы, мы можем хотя бы судить об убедительности тех или иных ответов, их логической непротиворечивости и согласованностью с наблюдениями.
Может быть, существование мира неизбежно, как дважды два неизбежно равно четырем, а может быть, если нет ничего, то нет и никаких препятствий для возникновения мира. Мы можем гадать, мы можем строить теории и проверять их. В любом случае, мы можем хотя бы попытаться ответить на этот вопрос и примерно представляем себе формат ответа на него.
Существует гораздо более сложный вопрос – мы не только не можем проверить на истинность или ложность ответа на него, но мы даже не представляем себе формат ответа, да и сам вопрос, честно говоря, мы сформулировали с большим трудом. Кроме того, многие люди даже не понимают суть вопроса, а другие отрицают его осмысленность. Этот вопрос, величайшая загадка Вселенной – тайна человеческого сознания.
Сперва, может показаться, что вопрос высосан из пальца, но на самом деле, он лежит в самой основе человеческого бытия, и к нему сводятся все остальные вопросы философии, науки и общества. К примеру, автор бестселлера «Sapiens: Краткая история человечества», известный израильский историк Юваль Ной Харари как‐то сказал, что без отсылки к сознанию у нас не получится даже обосновать ни одну этическую систему. Он кратко сформулировав свою мысль в виде простого вопроса: «Как без отсылки к сознанию доказать, что пытки это зло?».
Кроме того, научный и технологический прогресс все сильнее набирает ход, и мы вплотную подходим к эпохе киберпанка, в которой нам просто необходим ответ на вопросы о сознании: «Есть ли сознание у нейросети?», «Возможна ли загрузка сознания в компьютер?» и «Снятся ли андроидам электроовцы?».
Уже долгие годы я изучаю загадку сознания в трудах аналитических философов и нейробиологов. В этом эссе я решил объединить все изученные мною вопросы, аргументы и рассуждения. А начать экскурсию, я полагаю, нам стоит с того, чтобы определиться с предметом нашего разговора. Что вообще такое – это самое сознание?
Религиозные евреи читают свою первую молитву утром сразу после пробуждения ото сна. Звучит она так: «Благодарю Тебя, Царь живой и сущий, за то, что Ты по милости Своей возвратил мне мою душу.» Что это может означать? Почему они считают, что утром Бог возвращает им душу?
Дело в том, что душа – это религиозный синоним термина «сознание». Когда философы античности, средневековья и Возрождения рассуждали о душе, они говорили именно о сознании. Однако возникало много путаницы из‐за того, что разумные утверждения смешивались с мистическими и религиозными домыслами. Чтобы это исправить в аналитической философии XX века вместо слова «душа» стали употреблять термин «сознание».
Сознание – это поток субъективных впечатлений. Когда мы засыпаем этот поток прекращается или почти прекращается, а когда просыпаемся, этот поток возвращается. Именно этот поток и имеется в виду в еврейской молитве под термином «душа». К сожалению, «поток субъективных впечатлений» – это очень расплывчатое и неочевидное определение. Тут требуется некоторое разъяснение и примеры. Субъективные впечатления – это те чувства, которые мы испытываем при том или ином физическом процессе. Это то, что отвечает не на вопрос «Что это?» или «Как это работает?», а на вопрос «Каково это?».
Отличный пример для объяснения того, что такое субъективные впечатления, привел американский философ Томас Нагель. Представьте, что вы ученый, который изучает летучих мышей. У этих животных кроме привычных человеку органов чувств, существует еще один дополнительный – эхолокатор. Летучие мыши при полете в темноте издают ультразвук, и по его отражению от препятствий и предметов понимают, что где находится. Вы как ученый изучаете эхолокацию летучих мышей: делаете мышам МРТ, проводите им хирургические операции, ставите на них эксперименты. Вы знаете об эхолокации летучих мышей буквально всё – все ответы на вопросы «Что это?» и «Как это работает?». Но есть одна вещь, которую вы никак не можете узнать об эхолокации мышей с помощью экспериментов – это то каково это чувствовать эхолокацию, каково это быть летучей мышью. Ответ на вопрос «Каково это?» – и есть субъективное впечатление. А поток таких субъективных впечатлений – это и есть сознание.
Другой классический пример объяснения сознания – комната Марии. Представьте, что некоторую девочку по имени Мария с самого рождения держат в закрытом помещении без окон под стражей. Все в комнате Марии черно‐белое: и стены, и одежда, и экран компьютера. Марии доступно неограниченное количество информации о цветах – книги по физике света, книги про устройство глаза и восприятие цветов людьми, книги про работу мозга. Таким образом, Мария знает о цвете буквально все. Однажды Марию отпускают за пределы ее комнаты во внешний мир, полный красок. В тот самый момент, когда Мария увидит, что-либо красное, она получит субъективное впечатление восприятия красного цвета. Это чувство – то, что она не могла получить ни из каких книг.
Каждое субъективное впечатление само по себе в аналитической философии принято называть словом «квалиа». Квалиа – это элементарная неделимая частица сознания. Примеров таких элементарных частиц субъективного опыта целое множество: например, красный цвет, звук скрипа двери, запах апельсинов. Не существует способа как либо описать, определить квалиа или передать знание о нем. Невозможно объяснить, что такое красный цвет, слепому от рождения человеку, и что такое звук скрипки глухому.
Также мы даже не можем вообразить себе, какие квалиа испытывают другие живые существа. Какие цвета видят животные с тетрахроматическим зрением? Как чувствует оргазм человек противоположного пола? Эти безответные вопросы подводят нас к одной из проблем изучения сознания – проблеме других умов.
Главная проблема, препятствующая изучению сознания – это невозможность посмотреть на мир «глазами другого человека». У нас есть доступ к нашему собственному сознанию, но нет доступа к сознанию других. Эту проблему знаменитый немецкий математик и философ Готфрид Лейбниц окрестил «проблемой других умов».
Представьте себе, что весь наш мир – это одна большая видеоигра, а вы персонаж этой игры. Игра работает на базе графического и физического движков – физический движок просчитывает взаимодействие всех объектов в игре, а графический отрисовывает для вас картинку от первого лица.
Находясь внутри этой игры, вы можете ставить любые эксперименты с любыми игровыми объектами. С помощью этих экспериментов, вы можете выяснить детали работы физического движка игры. Потенциально, вы даже можете воспроизвести на листе бумаги полный код алгоритма работы физического движка – этакую внутриигровую Теорию Всего.
Однако, будучи персонажем игры, вы никакими экспериментами не можете узнать ответы на два вопроса. Являются ли другие персонажи игры такими же игроками или же хорошо запрограммированными, но бездушными NPC? Если предположить, что другие персонажи игры являются игроками, то такие же у них настройки и шейдеры графического движка или нет?
Если перевести эти два вопроса на общепринятый язык, то они будут звучать так. Обладают ли другие люди сознанием или нет? Если предположить, что другие люди обладают сознанием, то они видят цвета также как и мы или нет?
Есть абсурдное утверждение о том, что игра не мультиплеерная, а рендерится только для одного игрока – такое утверждение называется солипсизмом. Несмотря на всю абсурдность солипсизма, не существует ни единого способа его опровергнуть. Существование других умов – это предмет чистой веры.
Большинство людей верят в то, что игра все-таки мультиплеерная. Однако никто не в состоянии как-либо проверить, такие же у другого человека настройки графики или какие-то другие. Возможно ли такое, что разные люди видят цвета по-разному? На эту тему существует мысленный эксперимент.
Представьте, что вы и ваш друг смотрите на красное яблоко. Ни у вас, ни у друга нет никаких физических проблем со зрением или нарушений восприятия вроде дальтонизма. Вы показываете на яблоко пальцем и утверждаете, что оно красное. Ваш друг показывает на яблоко пальцем и утверждает, что оно красное. Вы сходитесь в том, что оно красное, ведь вы оба с детства привыкли к тому, что этот цвет называют красным. Может ли быть такое, что в своем сознании вы видите этот цвет так, как ваш друг в своем сознании видит зеленый, а зеленый вы видите так, как ваш друг видит красный? Не существует ни единого способа подтвердить или опровергнуть это предположение. Описанный мысленный эксперимент известен как «инвертированный спектр».
Проблема других умов долгие годы останавливала ученых от любых попыток изучения сознания, ведь существование других сознаний – это нефальсифицируемая гипотеза. Ее невозможно ни опровергнуть, ни подтвердить. Такое несоответствие критерию Поппера не дает возможности изучать сознание с помощью классического научного метода. И многие ученые даже утверждают, что сознание, душа – это выдуманная иллюзорная сущность, и ее нужно выбросить на свалку истории, где уже покоятся феи, единороги и прочие мифические создания. Однако, кое-что не дает всем ученым согласиться с этим – ведь факт существования сознания стоит у них перед глазами.
К концу XX века некоторые ученые подступились к изучению сознания. И первым шагом стало разделение вопросов о сознании на два типа: те, на которые можно попытаться найти ответы, и те, на которые нельзя. Долгое время даже очень умные люди, рассуждая о сознании, путались в терминах и утверждениях. В конце XX века вышла в свет книга австрало-американского философа Дэвида Чалмерса под названием «Cознающий ум», с помощью которой мыслитель попытался внести в дело ясность. Чалмерс разделил вопросы о сознании на два вида – легкие и трудные проблемы.
Легкая проблема сознания – это вопрос, на который возможно найти ответ с помощью научного способа при некоторых допущениях. В последние десятилетия многие нейробиологи занимаются поисками ответов на легкие проблемы сознания. Они ищут так называемые нейрокорреляты сознания – соответствия между цепочками активации нейронов в мозгу пациента и субъективными впечатлениями в его сознании. Единственное допущение, на которое опирается изучение сознания при этом методе – это вера в то, что пациент обладает сознанием и в то, что его устные отчеты о его субъективных переживаниях верны.
Трудная проблема сознания – это вопрос, на который найти ответ с помощью научного способа на нашем уровне мышления невозможно. Основной трудный вопрос – «Почему сознание вообще возникает и как квалиа связаны с физическими процессами?».
Если мы зададимся вопросом, что вообще обладает свойством «красноты», то не сможем найти ответ. Мы называем предмет красным, только потому что от него отражается свет определенной длины волны. Мы называем этот свет красным только потому, что при его попадании в глаз, в мозгу активируется цепочка нейронов, вызывающая у нас субъективное впечатление красного цвета. Но ни в предмете, ни в свете, ни в глазе, ни в мозге нет ничего красного.
Почему одна цепочка нейронов в голове вызывает впечатление красного цвета, а другая впечатление фиолетового? Если и то, и другое, просто последовательность сигналов, последовательность активаций, то почему красный цвет так сильно отличается от вкуса сливы? Да и почему, черт возьми, активация этих цепочек нейронов вообще порождает какие-либо чувства? Ответов на эти вопросы нет – это трудная проблема сознания.
Уже упоминаемый мною Лейбниц проиллюстрировал эту проблему отличной метафорой с мельницей. Представьте на секунду, что вашу голову увечили до огромных размеров так, что в нее теперь можно войти как в мельницу. Вы входите туда и видите огромное число связанных друг с другом проводов, или как писал сам живший задолго до изобретения электричества Лейбниц «шестеренок». Каждую из шестеренок приводит в движение предыдущая, а та в свою очередь приводит в движение последующую. При осмотре этой мельницы вы не найдете ничего такого, чем бы можно было бы объяснить сознание.
Эта проблема называется разрывом в объяснении. Этот разрыв не дает редуцировать ментальные состояния к физическим процессам. Так как все научные теории описываются математикой, а для квалиа невозможно дать строгое математическое описание, то получается, что невозможно свести сознательные впечатления к математическому или алгоритмическому описанию работы мозга. Красный цвет и процесс активации нейронов – это абсолютно ортогональные вещи. Именно поэтому нейробиологи называют изучаемые ими связи нейрокоррелятами – потому что корреляция между активацией нейронов и сознательным чувством есть, а причинно-следственной связи нет.
Разрыв между сознанием и физическим миром сильно интересовал знаменитого французского философа и математика Рене Декарта. Мыслитель одним из первых в Европе сформулировал трудную проблему сознания – он называл её психофизической проблемой или проблемой «духа и тела». Декарт размышлял о том, как могут происходящие с телом физические явления порождать сознательные впечатления, и как сознательное усилие воли может управлять телом. Например, как наше волевое усилие приводит к тому, что мы поднимаем палец?
Декарт считал, что сознание сконцентрировано в шишковидной железе головного мозга, которая получает сигналы от тела и отправляет обратно управляющие сигналы. Возможно, во времена Декарта такая теория и имела право на существование, но она содержит очевидную ошибку. Если все сознание сконцентрировано в шишковидном теле, то откуда оно там?
Таким образом аргумент о том, что сознание сконцентрировано в шишковидной железе – это первый шаг к бесконечной регрессии. Американский философ Дэниэл Деннет высмеял теорию Декарта, назвав ее картезианским театром. Деннет представил шишковидную железу из теории Декарта в виде гомункула – маленького человечка, живущего в голове, смотрящего за происходящим на экране и управляющего действиями тела. Даже если это действительно было бы так, то как же сознание возникает в голове у самого гомункула?
Нейрофизиологи не смогли найти единого центра сознания в нашем мозге – нейрокорреляты сознания тонким слоем размазаны по многим отделам мозга. Но некоторые отделы все же никак с сознанием не связаны. Например, содержащий половину всех нейронов мозга мозжечок почти не связан с сознательными впечатлениями.
Несмотря на очевидную ошибочность гипотезы связи тела и сознания, размышления Рене Декарта о природе сознания оказались не бесполезны. Вслед за Декартом многие другие европейские мыслители Нового Времени стали задумываться о проблеме сознания. И кроме того, Декарт сформулировал единственную вещь, в которой обладающее сознанием существо может быть уверено: «Я мыслю, следовательно я существую».
Мы можем быть уверены только в том, что лично мы обладаем сознанием. Мы можем лишь предполагать, что другие люди также обладают сознанием. Однако, если мы допускаем существование сознания у других людей, то было бы бессмысленным шовинизмом не допускать наличие сознания у животных – обезьян, собак, кошек, лошадей, дельфинов и китов. Смотря в глаза собаке, трудно сомневаться в том, что у них есть сознание. Если мы допускаем наличие сознания у млекопитающих, то почему бы не допустить наличие сознания у рептилий, рыб и других крупных животных? Если мы допускаем наличие сознания у рыб, то почему бы не допустить наличие сознания у насекомых и членистоногих. А если мы допускаем наличие сознания у насекомых, то почему бы не попустить существование сознания у червей, тихоходок и бактерий.
Таким образом, всего‐лишь навсего отказавшись от солипсизма, мы вступаем на скользкую лестницу, ведущую вниз вплоть к элементарным частицам. Если мы допускаем существование сознания у других людей и считаем, что сознание порождается физическими процессами обработки информации в нервной системе, то почему бы не допустить наличие сознания у бактерий, ведь внутри них протекают такие же физические процессы и обрабатывают некоторую информации. Да и столкновения элементарных частиц друг с другом тоже вполне можно записать в ту же категорию.
Так где же нам прочертить линию демаркации между сознательным и механическим? Как отличить одушевленных существ от простых биороботов? Имеет ли смысл становиться вегетарианцем из‐за страданий миллиардов коров, или же корова – это простая машина вроде автомобиля, только не из железа и пластика, а из мяса?
Кроме того, скользкая ведущая вниз лестница также ведет и наверх. Если физические процессы обработки информации порождают сознание, то и нашу планету можно рассматривать в качестве такого процесса. У Земли тоже есть сознание? Какие сны видит Гея? А если Земля сознательна, то вся Вселенная – это тоже огромное одушевленное существо, как считали древнеиндийские философы?
Отказ от солипсизма приводит нас к чувствующим бактериям и мыслящей Вселенной. Отказ от одного абсурда приводит к другому. Этот второй абсурд известен как панпсихизм.
У панпсихизма немало логических проблем. Одна из главных – это проблема комбинации. Если все физические процессы во Вселенной могут порождать чувственный опыт, то как именно различные комбинации этих процессов приводят к появлению цельного восприятия? Почему мы ощущаем себя именно как человек, а не как коленка или как целая планета?
Одним из возможных ответов на эти вопросы предлагается теория интегрированной информации, утверждающая, что не любые физические процессы порождают чувственный опыт, а только те, которые исполняют алгоритмы особого рода. Эти алгоритмы должны быть очень сложными и одновременно интегрировать огромную кучу информации в одном месте. По мнению автора теории, в нашем теле такие процессы исполняются только в коре головного мозга. Однако, если подумать, в самом деле эта теория не дает ответа на основной вопрос – всегда можно задаться вопросом: так, а почему одни алгоритмы порождают чувственный опыт, а другие – нет?
Вопрос о том, кто обладает сознанием, а кто нет, кажется далеким от реальности. Но на самом деле, вопрос о сознании влияет на все этические вопросы человечества. Если коровы не обладают сознанием, то это лишает смысла существование организаций по гуманному отношению к скоту.
А обладают ли сознанием нейросети? Если физический процесс обработки информации или же некий сложный алгоритм порождают сознание, то нейросети тоже должны быть сознательными. А если нейросети сознательны, то отключение компьютера с достаточной сложноустроенной нейросетью от питания этически ничем не отличается от убийства человека.
Пионеры в области искусственного интеллекта предлагали разделить ИИ на слабый и сильный. Слабый ИИ – это просто машина, которая выполняет инструкции и выдает ответ, а сильный ИИ – это искусственный интеллект, обладающий сознанием. Американский философ Джон Сёрл размышлял о том, как мы можем отличить сильный ИИ от слабого, и пришел к выводу, что сделать это невозможно. В поддержку своего утверждения он привел мысленный эксперимент под названием «Китайская комната».
Представьте, что вас посадили в комнату с единственным окошком. Через это окошко вам подают таблички с китайскими иероглифами. Китайского языка вы не знаете, но у вас есть книга с подробным набором правил о том, как в соответствии с полученными табличками составлять другие таблички, которые вы отдаете назад через окошко. Китайцу, который общается с вами через окошко, вы кажетесь разумным, но вы сами понятия не имеете о том, что говорится в табличках – вы просто по набору правил составляете выходные таблички на основе символов во входных табличках.
Таким образом, находясь в китайской комнате вы выполняете работу искусственного интеллекта. По сути, вы – нейрон в мозгу китайской комнаты. Но если набор правил в вашей инструкции достаточно полон, и китайская комната неотличима в общении от человека, то получается, что она обладает сознанием? Как комната может обладать сознанием? Это абсурд.
Другой вариант китайской комнаты называется «Китайский мозг». Представьте себе миллиарды китайцев, соединенных между собой телефонными сетями. Каждый отдельный китаец симулирует работу одного нейрона. Когда ему кто‐то звонит, он по простому набору данных ему правил, звонит кому‐то из других китайцев или же не звонит вообще. Вся телефонная сеть, таким образом, симулирует работу мозга. Если алгоритмически телефонная сеть китайцев эквивалентна мозгу, то получается, что у нее есть сознание. Но это же абсурд. Как телефонная сеть может обладать сознанием? Если у этой гипотетической сети есть сознание, то что же тогда чувствует интернет?



