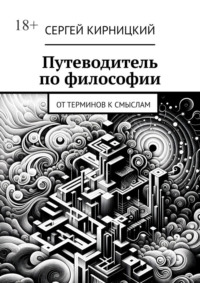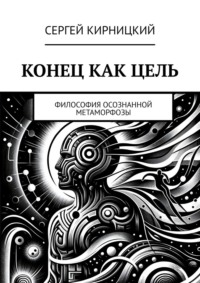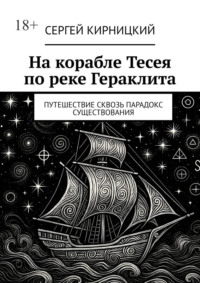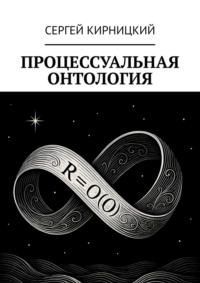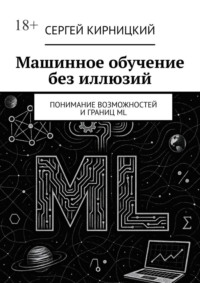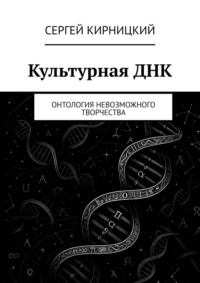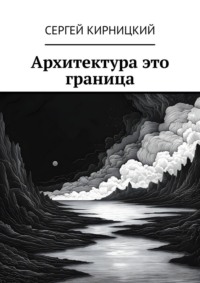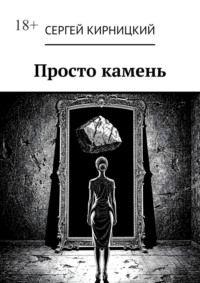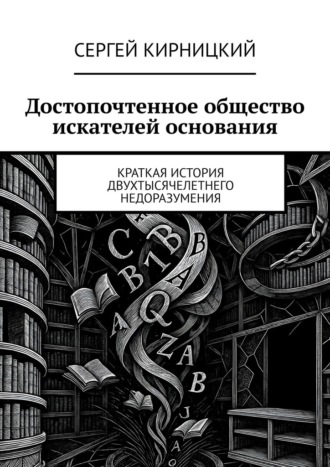
Полная версия
Достопочтенное общество искателей основания. Краткая история двухтысячелетнего недоразумения
Акт IV: Стоики находят утешение в космосе
После Аристотеля пришли стоики – люди, решившие, что если не можешь найти основание, надо хотя бы достойно это переносить. Их космос был пронизан Логосом – разумным принципом, организующим всё сущее.
«Что такое Логос?» – спрашивали любопытные. «Разумный огонь,» – отвечал Гераклит Стоик. «А почему огонь разумный?» «Потому что он Логос.» «Но…» «Живи согласно природе и не задавай лишних вопросов.»
Стоики были практичными людьми. Они поняли, что искать основание мучительно, и решили: давайте просто договоримся, что оно есть, назовём его Логосом и займёмся этикой. В конце концов, как правильно жить – вопрос более насущный, чем из чего всё произошло. Хотя их этика тоже основывалась на том самом неуловимом Логосе. Но это детали.
Марк Аврелий, император-стоик, записал в своём дневнике: «Вселенная – либо хаос, либо порядок. Но если хаос, откуда в тебе порядок?» Прекрасный вопрос, ваше величество. Жаль, что ответа вы не оставили. Возможно, варвары у границ отвлекли от метафизических размышлений.
Эпилог: Великое неуслышанное предупреждение
И вот финал первого акта великой философской драмы. Античность оставила нам в наследство: – Множество вариантов оснований (вода, воздух, огонь, атомы, числа, идеи, формы, Логос) – Ни одного обоснования этих оснований – Традицию искать то, что искать бессмысленно – Скептиков, которые это поняли (их вежливо проигнорировали)
Как заметил один университетский профессор за бокалом портвейна: «Греки подарили нам философию. Это как подарить ребёнку конструктор без инструкции и половины деталей. Увлекательно, но собрать что-то работающее невозможно.»
§3. Платон: Изобретатель двухэтажной Вселенной
Вернёмся к нашему дорогому Платону подробнее – всё-таки человек основал Академию, просуществовавшую девятьсот лет. Девятьсот лет искали основания! Если это не преданность идее, то что?
Платон был аристократом и, как подобает аристократу, считал, что истинная реальность должна быть где-то в более приличном районе, чем наш бренный мир. Представьте себе философа, который смотрит на грязную афинскую улицу и думает: «Нет, настоящая Улица – совершенная и чистая – существует Там, Наверху.» Очаровательный идеализм в прямом смысле слова.
Его знаменитая аллегория пещеры – это, по сути, признание в философском поражении, превращённое в победу. Мы все сидим в пещере и видим только тени истинных вещей. Чтобы увидеть реальность, надо выйти на свет. Прекрасно! Но где выход? «Философия!» – восклицает Платон. А куда ведёт философия? «К истине!» А где истина? «За пределами пещеры!» А как узнать, что мы вышли? «Вы увидите истину!» Круг замкнулся так элегантно, что даже не скрипнул.
Самое трогательное в платонизме – это учение о припоминании. Душа, оказывается, всё знала, когда обитала в мире идей, но, воплотившись, забыла. Обучение – это припоминание. Блестяще! Если не можешь объяснить, откуда берётся знание, скажи, что оно всегда было, просто мы забыли. Это как искать очки, которые у тебя на лбу, только в космическом масштабе.
Диалог «Менон» прекрасно это иллюстрирует. Сократ «доказывает» теорию припоминания, заставляя необразованного раба «вспомнить» геометрическую теорему. То, что он задаёт наводящие вопросы, подталкивая к нужному ответу, – детали. Главное, что раб «вспомнил»! Современные педагоги называют это методом Сократа. Древние скептики называли это подтасовкой. Но кто слушает скептиков?
Платоновская Академия стала первым университетом, где систематически искали то, чего нет. Над входом висела надпись: «Не геометр да не войдёт.» Почему геометрия? Потому что она имеет дело с идеальными фигурами, которых в природе не существует! Идеальный круг, идеальная прямая – всё это обитатели мира идей. В реальном мире только приблизительные копии. Как сказал бы современный студент: «Профессор, а зачем изучать то, чего нет?» – «Затем, молодой человек, что это единственная истинная реальность!» Студент уходит озадаченным. Традиция жива до сих пор.
§4. Аристотель: Первый председатель Общества
Если Платон был мечтателем, то Аристотель был систематизатором. Он классифицировал всё: от силлогизмов до морских ежей. Его девиз мог бы звучать: «Если не можешь найти основание, хотя бы разложи всё по полочкам.»
Двадцать лет он учился в Академии, а потом основал свой Ликей – прогулочную школу, где философствовали на ходу. Возможно, он надеялся, что в движении легче поймать ускользающее основание. Не поймал, но попытка была благородной.
Его «Метафизика» начинается знаменитой фразой: «Все люди от природы стремятся к знанию.» Чудесно! А откуда он это знает? Из наблюдения? Но он же не всех людей наблюдал. Из разума? Но откуда разум это знает? Уже в первой строчке Аристотель демонстрирует ту самую проблему, которую будет решать (точнее, не решать) следующие тысячу страниц.
Особенно восхитительна его теория о перводвигателе. Представьте: всё в мире движется потому, что его что-то движет. Но чтобы избежать регресса в бесконечность (А движет Б, Б движет В, и так до тошноты), нужен неподвижный двигатель. Как это работает? А вот так: перводвигатель настолько совершенен, что всё к нему стремится, как железо к магниту. Но магнит хотя бы притягивает! А перводвигатель? Он просто думает о себе, будучи мышлением о мышлении. Нарциссизм космического масштаба как основание мироздания – даже Фрейд не додумался до такого.
Аристотель также изобрёл формальную логику – свод правил правильного мышления. Все люди смертны, Сократ – человек, следовательно, Сократ смертен. Безупречно! Но откуда мы знаем, что все люди смертны? Мы же не проверили всех людей. «Индукция!» – говорит Аристотель. А индукция надёжна? «Обычно!» Обычно – это не всегда. «Достаточно часто!» Для чего достаточно? И так далее, пока собеседник не устанет и не согласится.
Влияние Аристотеля было таким огромным, что средневековые схоласты называли его просто Философ – с большой буквы, без имени. Как Господь, только в философии. Две тысячи лет его искали ошибки в его системе и… продолжают искать. Не ошибки – их нашли предостаточно. Искать продолжают основание. Аристотель был бы польщён. Или огорчён. Возможно, и то, и другое – он ведь учил о золотой середине.
§5. Стоики: Если сильно веришь, это становится основанием
После грандиозных систем Платона и Аристотеля пришли стоики – философы, решившие, что раз основание не находится, надо хотя бы достойно это переживать. Их основатель, Зенон из Китиона (не путать с Зеноном Элейским и его черепахой), потерпел кораблекрушение, потерял всё состояние и решил стать философом. Логично: потерял всё материальное – ищи духовное основание.
Стоики создали удивительную систему, где всё пронизано разумным началом – Логосом, который одновременно бог, природа, судьба и закон. Универсальная отмычка для любого философского вопроса: – Почему мир упорядочен? Логос! – Почему мы можем познавать? Логос! – Почему надо быть добродетельным? Логос! – Что такое Логос? Эээ… Логос это Логос!
Это как современная техподдержка: «Перезагрузите компьютер.» – «Не помогло.» – «Перезагрузите ещё раз.»
Стоическая физика была особенно изобретательной. Весь мир – это живое существо, пронизанное пневмой (дыханием), которая держит всё вместе. Как пневма это делает? Она напрягается! В прямом смысле – тонос, напряжение. Вселенная держится на космическом мышечном усилии. Если это не попытка вытащить себя за волосы, то что?
Но стоики были мудрыми людьми в практическом смысле. Они поняли: если не можешь найти основание мира, найди хотя бы основание для достойной жизни. Их этика проста: живи согласно природе. Какой природе? Разумной! Почему она разумна? Логос! Опять этот Логос. Он как швейцарский нож античной философии – годится для всего, но ничего толком не объясняет.
Эпиктет, раб, ставший философом, учил: «Из вещей иные в нашей власти, иные не в нашей власти.» Блестящее наблюдение! Основание мира явно не в нашей власти, так что не будем о нём беспокоиться. Займёмся тем, что в нашей власти – нашим отношением к отсутствию основания. Стоический оптимизм в чистом виде.
Марк Аврелий, император-философ, писал свои «Размышления» в военном лагере между сражениями с варварами. «Всё течёт и меняется,» – записывает он, вторя Гераклиту. – «Но Логос вечен.» Откуда он знает, что Логос вечен, если всё течёт? Император был занятой человек, некогда было задаваться такими вопросами. Варвары у ворот – более насущная проблема, чем отсутствие метафизического фундамента.
Промежуточный итог: Наследие эллинов
Итак, что же оставила нам античность? Целый каталог попыток найти основание, каждая изобретательнее предыдущей:
Материальные основания (вода, воздух, огонь, земля) – не объясняют сами себя. Абстрактные основания (апейрон, числа, атомы) – требуют обоснования. Трансцендентные основания (идеи, формы, перводвигатель) – недостижимы и недоказуемы. Имманентные основания (Логос, пневма) – определяются через то, что сами должны определять.
Как заметил один историк философии: «Греки перепробовали все возможные варианты оснований. Последующие философы просто переставляли мебель в той же комнате.»
Но самое важное наследие античности – это не ответы, а метод. Греки показали, как надо искать основание: страстно, изобретательно и совершенно безрезультатно. Они создали традицию, которой философия следует до сих пор. Это как если бы первый человек, попытавшийся взлететь, махая руками, основал школу махания руками, и две тысячи лет спустя его последователи всё ещё машут, только более изощрённо.
Скептики предупреждали. Пиррон качал головой. Секст Эмпирик документировал абсурдность происходящего. Но философский энтузиазм оказался сильнее здравого смысла. В конце концов, что такое невозможность по сравнению с красотой попытки?
И вот что самое трогательное: они искренне верили, что вот-вот найдут. Ещё одно определение, ещё один силлогизм, ещё одна классификация – и тайна будет раскрыта. Этот оптимизм первопроходцев вызывает одновременно восхищение и сочувствие. Как дети, ищущие край радуги, чтобы найти горшок с золотом.
Римляне, люди практичные, переняли греческую философию, но как-то без энтузиазма. Цицерон переводил, Сенека популяризировал, Марк Аврелий применял к управлению империей. Но искать основания? Увольте, у нас дороги строить надо. Дороги, кстати, стоят до сих пор. А основания так и не нашли.
Последний великий античный философ, Плотин, попытался объединить всё – Платона, Аристотеля, стоиков – в грандиозную систему эманаций из Единого. Единое порождает Ум, Ум – Душу, Душа – материю. Почему? Потому что Единое переполнено собой и изливается. Как чаша с водой? Нет, Единое не убывает. Как свет от солнца? Нет, Единое не действует. Как же тогда? Тайна!
Барон Мюнхгаузен хотя бы признавал, что его истории – выдумки. Философы верили в свои построения. В этом их величие. И их трагедия.
Занавес первого акта падает. Но представление только начинается. Впереди – средневековые схоласты, вооружённые Аристотелем и Священным Писанием. Если греки не смогли найти основание разумом, может, поможет вера?
Спойлер: не поможет. Но попытка будет захватывающей.
Глава II. Средневековье: Божественное вмешательство не помогло
В которой мы с прискорбием обнаруживаем, что даже апелляция к Всевышнему не решает проблему основания, а лишь переносит её на небеса
Представьте себе, дорогой читатель, следующую сцену: философ, измученный безуспешными поисками основания, внезапно восклицает: «Эврика! Если я не могу найти основание, значит, его нашёл кто-то другой!» И взор его обращается к небесам. Примерно так и поступила философия после падения Рима. Впрочем, учитывая состояние Рима в пятом веке, обращение к небесам выглядело вполне рациональным выбором.
Средневековье часто называют тёмными веками. Несправедливо! Это были века ослепительной веры в то, что если очень убедительно сказать «Бог», то дальнейшие вопросы становятся неуместными. Увы, вопросы оказались на редкость неделикатными и продолжали возникать даже в самых благочестивых умах.
§1. Августин: Техника «потому что Бог»
Блаженный Августин Иппонийский – джентльмен с бурным прошлым и философским будущим – совершил интеллектуальный манёвр поразительной элегантности. Столкнувшись с невозможностью найти рациональное основание, он объявил: основание есть, но оно превосходит человеческий разум. Гениально! Если не можешь решить проблему – объяви её священной тайной.
«Верую, ибо абсурдно» – фраза, которую Августину приписывают чаще, чем он её произносил, но которая великолепно передаёт суть подхода. По крайней мере, это было честно. Вместо попыток рационально обосновать невозможное, просто признать: да, это абсурдно, именно поэтому и требует веры. Своего рода интеллектуальная капитуляция, обставленная как победа.
Августин начал свою философскую карьеру как скептик – весьма разумная позиция, учитывая состояние философии к четвёртому веку. Затем увлёкся манихейством – дуализм всегда привлекателен своей симметрией. Потом неоплатонизм – Плотин казался таким убедительным. И наконец, христианство – окончательное решение всех философских проблем. Или их окончательное игнорирование, что, в сущности, одно и то же.
Его «Исповедь» – захватывающее чтение. Человек с поразительной искренностью описывает свои интеллектуальные метания, завершившиеся обнаружением простой истины: если Бог – основание всего, то вопрос об основании Бога задавать неприлично. Это как спрашивать у королевы о её возрасте – технически возможно, но совершенно недопустимо.
Особенно трогательна его теория времени. «Что же такое время?» – спрашивает Августин. «Если никто меня об этом не спрашивает, я знаю; если же хочу объяснить спрашивающему – не знаю.» Восхитительная честность! Жаль, что он не применил тот же подход к вопросу об основании. «Что такое основание? Если никто не спрашивает – Бог. Если спрашивают – всё равно Бог, но не спрашивайте почему.»
Проблема зла? Зло – это отсутствие добра, как тьма – отсутствие света. Изящно! Правда, возникает вопрос: если Бог – источник всего сущего, то откуда взялось это самое «отсутствие»? Августин предпочёл не развивать тему. Мудрый человек знает, когда остановиться.
Самое примечательное в августиновском решении – его влияние на последующую тысячу лет философии. Оказалось, что «потому что Бог» – универсальный ответ на любой неудобный вопрос. Почему мир существует? Бог создал. Почему Бог создал мир? Божья воля. Почему божья воля именно такая? Пути Господни неисповедимы. Безупречная защита от любого философского допроса.
§2. Ансельм: Онтологическое доказательство (основание в определении)
Ансельм Кентерберийский, итальянец на английской службе, совершил нечто поразительное: он решил доказать существование Бога чистой силой определения. Это как если бы вы определили идеальный английский завтрак как «завтрак, который обязательно существует», а затем заявили, что отныне голод по утрам логически невозможен.
Онтологическое доказательство – шедевр схоластической изобретательности. Бог, утверждает Ансельм, есть то, больше чего нельзя помыслить. Но если Он существует только в уме, можно помыслить нечто большее – то же самое, но существующее в реальности. Следовательно, Бог существует! Кружит голову, не правда ли?
Современники Ансельма отреагировали с предсказуемым скептицизмом. Монах Гаунило написал возражение от имени дурака (буквально – «Pro Insipiente»), где применил ту же логику к совершенному острову. Если мы можем помыслить совершенный остров, и существующий остров совершеннее воображаемого, то… где же этот остров? Ансельм ответил, что его аргумент работает только для Бога. Почему? Потому что Бог особенный. Круг замкнулся с поистине схоластическим изяществом.
Самое забавное в онтологическом доказательстве – его неубиваемость. Каждое поколение философов опровергает его заново, и каждое поколение находит новых защитников. Декарт попробовал свою версию. Лейбниц усовершенствовал. Кант, казалось бы, окончательно похоронил, заявив, что существование – не предикат. Но нет! В двадцатом веке Курт Гёдель, человек, доказавший неполноту математики, представил формализованную версию. Если уж математик, разрушивший основания математики, пытается доказать существование Бога через определение, что говорить о простых смертных?
Ансельм также подарил нам принцип «вера, ищущая понимания» (fides quaerens intellectum). Сначала верим, потом пытаемся понять, во что именно. Это как покупать кота в мешке, а потом убеждать себя, что именно такого кота вы и хотели. Впрочем, учитывая альтернативу – понимание, ищущее веру и не находящее – выбор Ансельма выглядит почти практичным.
Забавная деталь: Ансельм был превосходным администратором и политиком. Человек, способный управлять средневековым монастырём и вести переговоры с норманнскими королями, несомненно должен был понимать разницу между словами и реальностью. Но нет – в философии он искренне верил, что правильное определение может создать существование. Возможно, это профессиональная деформация теолога: если Бог создал мир Словом, почему бы философу не создать Бога определением?
§3. Схоласты: Тысяча страниц о количестве ангелов
Схоластика – это то, что происходит, когда очень умные люди с большим количеством свободного времени пытаются решить нерешаемые проблемы при помощи исключительно логики и цитат из Аристотеля. Результат предсказуем: монументальные трактаты, где количество различений превышает количество здравых мыслей в пропорции, достойной отдельного схоластического исследования.
Знаменитый вопрос о том, сколько ангелов может танцевать на кончике иглы, возможно, апокриф, но он прекрасно передаёт дух эпохи. Вместо того чтобы спросить, существуют ли ангелы, или зачем им танцевать, или откуда взялась игла, схоласты углублялись в тончайшие дистинкции. Материальны ли ангелы? Если нет, то занимают ли место? Если не занимают, то все могут поместиться на игле. Но если все, то в чём их различие? Четыреста страниц спустя вопрос оставался открытым.
Пьер Абеляр – блестящий ум и трагическая судьба – попытался применить диалектику ко всему подряд. Его «Да и нет» (Sic et Non) собрал противоречащие друг другу высказывания отцов церкви по ключевым вопросам. Оказалось, святые отцы согласны только в одном: в несогласии друг с другом. Церковные власти отреагировали предсказуемо. Абеляр закончил свои дни в монастыре, что, учитывая альтернативы в двенадцатом веке, было почти счастливым финалом.
Проблема универсалий – существуют ли общие понятия реально или только в уме – занимала лучшие умы столетиями. Реалисты утверждали: универсалии реальны! Номиналисты возражали: только имена! Концептуалисты пытались найти середину: существуют, но в уме! Сотни трактатов, тысячи аргументов, десятки тысяч страниц. А в это время крестьяне пахали землю, совершенно не задумываясь, существует ли «землесть» отдельно от конкретной земли. Возможно, в этом и был секрет их душевного спокойствия.
Дунс Скот, чьё имя несправедливо стало синонимом глупости (dunce), изобрёл концепцию haecceitas – «этовости», индивидуальной сущности каждой вещи. У каждого объекта есть не только универсальная природа (лошадность у лошади), но и уникальная этовость, делающая его именно этим объектом. Блестяще! Правда, объяснить, что такое этовость, кроме как «то, что делает это этим», он не смог. Но разве это проблема? В схоластике главное – дать название. Назвал – значит, объяснил.
Уильям Оккам, англичанин с бритвой наперевес, попытался навести порядок. Его знаменитый принцип – не умножать сущности без необходимости – был прямой атакой на схоластические джунгли различений. Зачем придумывать этовость, естьность, лошадность и прочие -ности, если можно просто сказать: вот лошадь? Коллеги-схоласты восприняли это как вульгарное упрощенчество. Оккам бежал к императору. История не сохранила, брал ли он с собой бритву.
Самое поразительное в схоластике – это сочетание интеллектуальной виртуозности с полным отсутствием практического результата. Это как если бы лучшие инженеры мира столетиями проектировали вечный двигатель, каждый раз добавляя всё более изощрённые шестерёнки. Работать он от этого не начинал, но чертежи получались восхитительные.
§4. Фома Аквинский: Пять доказательств того, что доказательства не нужны
Святой Фома Аквинский – философский тяжеловес тринадцатого века (в прямом и переносном смысле – современники отмечали его дородность) – предпринял титаническую попытку примирить Аристотеля с христианством. Это как пытаться скрестить английский пудинг с греческим салатом – технически возможно, но зачем?
Его пять путей к Богу – quinque viae – это вершина схоластической аргументации. Рассмотрим их с должным почтением:
Первый путь – от движения. Всё движимое приводится в движение чем-то другим. Но не может быть бесконечной цепи двигателей, следовательно, есть Перводвигатель. Почему не может быть бесконечной цепи? Фома утверждает: это очевидно. Барон Мюнхгаузен, вытягивающий себя за волосы, мог бы поспорить.
Второй путь – от причинности. Всё имеет причину, не может быть бесконечного регресса причин, следовательно, есть Первопричина. Погодите, это не тот же самый аргумент? Фома уверяет, что нет – это совершенно другое. Движение и причинность – разные вещи. Если вы не видите глубокого различия, возможно, вы недостаточно схоластичны.
Третий путь – от случайности к необходимости. Случайные вещи могут не существовать, если всё случайно, то когда-то ничего не было, но из ничего ничего не возникает, следовательно, есть нечто необходимое. Минуточку, откуда следует, что если всё случайно, то когда-то ничего не было? Фома считает это самоочевидным. Мы вежливо киваем.
Четвёртый путь – от степеней совершенства. Есть более и менее благие, истинные, благородные вещи. Но сравнительные степени подразумевают превосходную степень. Следовательно, есть нечто наиболее благое, истинное и благородное. Это… это вообще аргумент? Если есть более и менее лысые люди, должен ли существовать абсолютно лысый Платонический Лысый? Фома бы сказал, что мы упрощаем. Возможно.
Пятый путь – от целесообразности. Мир упорядочен, даже неразумные вещи действуют целесообразно, следовательно, есть разумный устроитель. Это единственный аргумент, который хотя бы внешне апеллирует к эмпирическому наблюдению. Правда, Дарвин потом покажет, что целесообразность может возникать без устроителя, но это будет через шестьсот лет. Фома не виноват, что родился рано.
Самое замечательное во всех пяти путях – их финал. Каждый заканчивается фразой: «И это все называют Богом». Все? Серьёзно? Греческие философы называли Перводвигатель совсем другими словами. Но Фома великодушно интерпретирует историю философии: все искали христианского Бога, просто не знали об этом.
После доказательства существования Бога Фома переходит к его атрибутам. Бог прост (не составен), совершенен, благ, бесконечен, неизменен, един, и так далее. Откуда это следует? Из определения! Если Бог – Первопричина, он не может быть составным (иначе его части были бы первее). Если он Перводвигатель, он неподвижен (иначе его бы двигал кто-то ещё). Логика безупречна, если принять исходные посылки. Но почему мы должны их принять?
Фома также разработал теорию аналогии – как мы можем говорить о Боге человеческими словами. Когда мы говорим «Бог благ», мы используем слово «благ» не в том же смысле, что «человек благ» (унивокально), но и не в совершенно разном (эквивокально), а аналогически. Что это значит? Примерно то же, что и «благ», но не совсем. Яснее не стало? Добро пожаловать в схоластику!
Влияние Фомы на католическую философию невозможно переоценить. В девятнадцатом веке папа Лев XIII объявил томизм официальной философией Католической церкви. Представьте: философия тринадцатого века становится обязательной в девятнадцатом. Это как если бы современные университеты объявили алхимию официальной химией. Впрочем, учитывая, что философы до сих пор ищут философский камень под названием «основание», аналогия не такая уж неуместная.
Средневековая философия завершилась примерно так же, как началась – обращением к вере. Правда, к концу периода это была вера, вооружённая тысячами страниц аргументов, сотнями дистинкций и десятками доказательств. Но в основе всё та же капитуляция разума перед проблемой основания, только обставленная с академической помпой.
Уильям Оккам в четырнадцатом веке фактически признал поражение: разум и вера – разные сферы, не надо их смешивать. Николай Кузанский в пятнадцатом добавил концепцию «учёного незнания» – чем больше мы знаем, тем больше понимаем, что не знаем. Мудрые люди, предвосхитившие Сократа с опозданием на две тысячи лет.