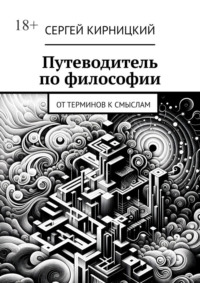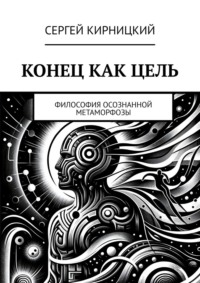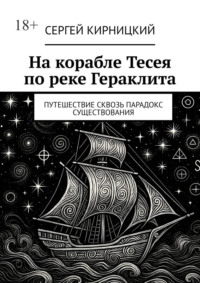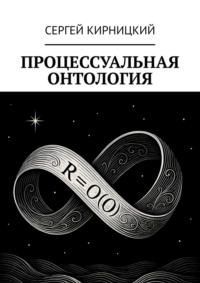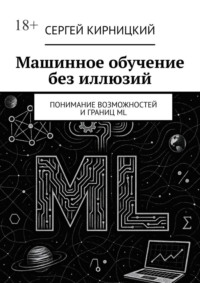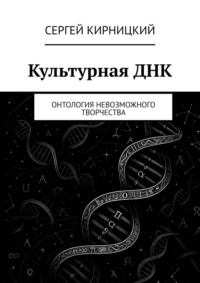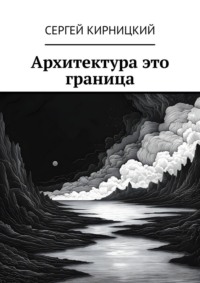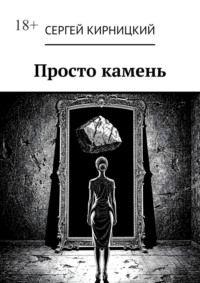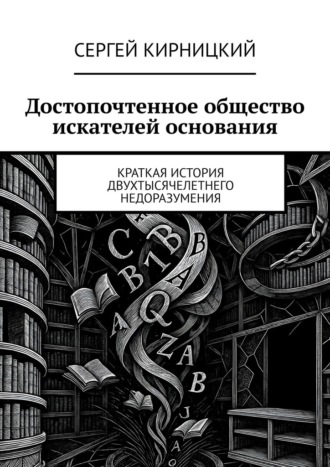
Полная версия
Достопочтенное общество искателей основания. Краткая история двухтысячелетнего недоразумения

Достопочтенное общество искателей основания
Краткая история двухтысячелетнего недоразумения
Сергей Кирницкий
© Сергей Кирницкий, 2025
ISBN 978-5-0068-0523-1
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ АВТОРА
Дорогой читатель,
Позвольте начать с необходимого признания: эта скромная работа ни в коем случае не претендует на оригинальность. В конце концов, указать на отсутствие того, что две с половиной тысячи лет ищут лучшие умы человечества, – это примерно как заметить, что король голый. Требуется не особая проницательность, а лишь некоторая… скажем так, непочтительность к академическим мантиям.
Мы всего лишь берём на себя смелость зафиксировать одно небольшое недоразумение, начавшееся, по-видимому, в тот момент, когда первый философ решил, что у всего должно быть основание. «Должно» – чудесное слово, не правда ли? Особенно когда произносится с той непоколебимой уверенностью, которая отличает профессора философии от, скажем, сантехника. Последний, по крайней мере, знает, где находятся трубы.
Представленное исследование – если позволительно употребить столь громкое слово – представляет собой нечто вроде вежливого некролога. Не отдельному мыслителю, упаси Боже, а целой традиции поиска того, что барон Мюнхгаузен продемонстрировал как логическую невозможность. Примечательно, что философы восприняли его рассказ не как предостережение, а как методологическое руководство. Это примерно как если бы физики две тысячи лет совершенствовали технику хождения по воде, каждый раз объясняя неудачу недостаточной скоростью шага.
Должен предупредить: в процессе чтения некоторые академические репутации могут оказаться слегка… как бы это сказать… скорректированы. Автор приносит свои искренние сожаления всем, чьи портреты украшают университетские коридоры. Впрочем, не очень искренние. В конце концов, если человек две тысячи лет ищет чёрную кошку в тёмной комнате, особенно когда кошки там нет, определённая доля иронии представляется уместной.
Но – и это важно – в нашей истории есть подлинные герои. Те немногие честные души, которые имели мужество заявить: «Послушайте, а что если мы ищем то, чего нет?» Давид Юм, осмелившийся усомниться в самой возможности обоснования, и поплатившийся за это вежливым академическим остракизмом. Ницше, превративший отсутствие основания из трагедии в танец. Античные скептики, которые с самого начала всё правильно поняли, но были проигнорированы с той настойчивостью, с какой британцы игнорируют плохую погоду – то есть абсолютной.
Этим благородным отступникам, отказавшимся участвовать в коллективном самообмане, мы отдаём должное с искренним восхищением. Они предпочли неудобную правду комфортной иллюзии, интеллектуальную честность – академической карьере. В мире, где успех философа измеряется толщиной написанных томов, они имели смелость сказать: «А король-то голый!» За это им – наше уважение и бокал хорошего портвейна.
Остальным – искателям несуществующего, строителям воздушных замков, изобретателям всё более изощрённых способов вытягивания себя за волосы – мы предлагаем то, что полагается в приличном обществе: чай с печеньем и вежливую британскую улыбку. Ту самую, которая может означать всё что угодно, от «как интересно» до «Боже, какая чушь», но всегда остаётся безупречно корректной.
Следует также отметить, что данная работа ни в коем случае не является атакой на философию как таковую. Философия прекрасна в своей донкихотской решимости найти то, чего нет. Она трогательна в своём упорстве, достойна восхищения в своей изобретательности и, безусловно, развлекательна в своих неудачах. Где ещё можно наблюдать столь захватывающее зрелище, как блестящие умы, столетиями бьющиеся над задачей, которая по определению не имеет решения?
Автор просит прощения у всех, кто потратил жизнь на поиски философского основания. Утешением может служить то, что вы в хорошей компании. Платон, Аристотель, Кант, Гегель – все они искали с bewundernswerter Gründlichkeit… простите, с достойной восхищения основательностью. То, что искомое отсутствовало, ни в коей мере не умаляет благородства попытки. В конце концов, сэр Персиваль тоже не нашёл Святой Грааль, но это не делает его менее рыцарем.
И последнее. Если после прочтения этой книги вы всё ещё убеждены, что философское основание где-то существует и просто ждёт своего открывателя, автор может лишь позавидовать вашему оптимизму. Это как вера в то, что где-то есть край у круга – трогательно, поэтично и совершенно безнадёжно. Но пожалуйста, не позволяйте нашему скептицизму помешать вашим поискам. В конце концов, кто-то же должен обеспечивать занятость философских факультетов.
С совершенным почтением к вашему интеллекту
и лёгким сомнением в здравомыслии тех, кто всё ещё ищет,
Автор
P.S. Чай будет подан после прочтения. Печенье – экзистенциальное, существует только пока вы в него верите.
ВВЕДЕНИЕ: О БЛАГОРОДНОМ ИСКУССТВЕ ВЫТЯГИВАНИЯ СЕБЯ ЗА ВОЛОСЫ
Дорогой читатель, позвольте начать с небольшого признания. Эта книга родилась из простого недоумения, которое, осмелюсь предположить, посещало многих, кто имел несчастье… простите, честь изучать философию в университете. Недоумение это можно сформулировать в виде невинного вопроса: а что, собственно, все ищут?
Представьте себе следующую сцену. Вечер в оксфордском клубе, камин потрескивает, херес разлит по бокалам. Почтенный профессор философии, седовласый джентльмен с тридцатилетним стажем преподавания метафизики, внезапно поднимает голову от трактата Канта и спрашивает: «Коллеги, а мы точно уверены, что ищем нечто существующее?» Неловкое молчание. Кашель. Кто-то неуверенно предлагает ещё хереса. Тема деликатно меняется на погоду.
Но вопрос остаётся. И чем дольше размышляешь над ним, тем более… занимательной становится вся ситуация.
Видите ли, существует одна поучительная история, которую рассказывают детям, но почему-то забывают рассказать аспирантам философских факультетов. История о бароне, который, увязнув в болоте, решил проблему с истинно аристократической элегантностью: ухватился за собственные волосы и вытащил себя вместе с конём. Физики используют эту историю как пример невозможного. Инженеры – как предостережение. Дети – как повод посмеяться.
Философы же, похоже, восприняли её как инструкцию.
Две с половиной тысячи лет – срок, достаточный для того, чтобы построить и разрушить несколько цивилизаций, изобрести колесо, порох, книгопечатание и интернет, долететь до Луны и вернуться обратно. За это время человечество научилось расщеплять атом, редактировать гены и создавать искусственный интеллект. Чего человечество не научилось делать за эти два с половиной тысячелетия? Правильно – находить философское основание, которое само не нуждалось бы в основании.
Не то чтобы не пытались. О, как пытались! С упорством, достойным лучшего применения, каждое новое поколение философов бросалось на штурм этой крепости, вооружённое новой терминологией и свежей уверенностью в том, что предшественники просто что-то упустили. Какая-то мелочь. Деталь. Нюанс. Вот сейчас, с правильным подходом…
Результаты этих героических усилий собраны в тысячах томов, которые украшают университетские библиотеки от Оксфорда до Гарварда. Величественные фолианты, написанные на дюжине языков, включая несколько изобретённых специально для этой цели. Немецкие философы, например, с особым энтузиазмом подошли к созданию слов длиной в абзац – видимо, надеялись, что если сделать термин достаточно длинным, никто не заметит отсутствия основания под ним.
Любопытная деталь: чем сложнее становилась философская система, тем дальше она уходила от исходного вопроса. Как если бы архитектор, которого попросили укрепить фундамент дома, в ответ построил бы великолепную башню рядом и заявил: «Смотрите, какая высокая! Теперь фундамент первого здания точно не нужен!»
Платон, славный афинянин, предложил элегантное решение: поместить основания в другой мир. Мир идей, где обитают совершенные формы всего сущего. Прекрасно! Но возникает скромный вопрос: а у мира идей есть основание? Платон предпочёл эту тему не развивать. Две тысячи лет его последователи искали лестницу в мир идей. Поиски продолжаются. Лестница, по всей видимости, тоже идеальная – настолько, что существует только в теории.
Аристотель, ученик Платона и человек значительно более практичный, решил проблему по-македонски: прямолинейно. Есть первые принципы, заявил он, которые самоочевидны. Почему именно эти принципы самоочевидны? Потому что очевидно, что они самоочевидны. Блестяще! Вот только разные философы находили самоочевидными совершенно разные вещи. Неловко.
Средневековые схоласты передали эстафету Богу. Он – основание всего. А основание Бога? Тсс, не богохульствуйте. Удобная позиция, особенно в эпоху, когда за неудобные вопросы можно было познакомиться с инквизицией. Правда, Фома Аквинский написал пять доказательств бытия Божия, каждое из которых в критический момент делает элегантный логический пируэт и заявляет: «А дальше очевидно». Пять разных способов сказать «потому что».
Новое время принесло свежий энтузиазм. Декарт решил усомниться во всём, чтобы найти несомненное. Усомнился так основательно, что единственное, в чём не смог усомниться, – это в том, что сомневается. «Мыслю, следовательно, существую». Прекрасно, месье Декарт, но откуда следует «следовательно»? Из логики? А откуда мы знаем, что логика… Впрочем, не будем мучить покойного.
К восемнадцатому веку философы достигли такого уровня изощрённости в попытках вытащить себя за волосы, что сам барон Мюнхгаузен мог бы поучиться. Кант написал восемьсот страниц о границах разума, используя разум для доказательства этих границ. Это как измерять длину линейки той же самой линейкой – технически возможно, но что-то в этом процессе вызывает лёгкое головокружение.
Гегель пошёл ещё дальше и заявил, что противоречие – это не проблема, а движущая сила развития. Если не можешь решить парадокс, объяви его диалектикой! Абсолютная идея познаёт себя через своё отрицание и снятие этого отрицания в синтезе. Или что-то в этом роде. Честно говоря, после третьего прочтения «Феноменологии духа» начинаешь подозревать, что непонимание – это не баг, а фича.
Британские эмпирики, люди практичные, решили, что основание нужно искать в опыте. Прекрасная идея, если не задаваться вопросом об основании доверия к опыту. Дэвид Юм, благослови его господь, имел мужество признать: никакого основания нет, причинность – это привычка, индукция не работает, и вообще пойдёмте лучше играть в бильярд. За такую честность его, разумеется, не любят до сих пор.
Девятнадцатый век принёс новую надежду. Наука! Вот что станет основанием! Позитивисты с энтузиазмом принялись строить философию на фундаменте научного метода. Небольшая проблема: научный метод сам нуждается в философском обосновании. Круг замкнулся с викторианской основательностью.
Двадцатый век… что ж, двадцатый век был особенно изобретателен. Феноменология попыталась добраться до чистого сознания. Аналитическая философия решила, что всё дело в языке – нужно просто правильно определить термины. Экзистенциалисты заявили, что отсутствие основания – это и есть основание, превратив философскую неудачу в философскую позицию. Остроумно!
Постмодернисты честно признали, что ничего не работает, и устроили по этому поводу праздник деконструкции. По крайней мере, весело.
И вот мы здесь, в двадцать первом веке, с суперкомпьютерами, квантовой физикой, нейросетями и… всё той же проблемой основания. Технологии шагнули так далеко, что скоро, возможно, искусственный интеллект будет искать философское основание вместо нас. Интересно, сколько ему потребуется времени, чтобы понять тщетность этого занятия?
В этой скромной книге мы предлагаем совершить увлекательное путешествие по истории этих попыток. Не для того, чтобы посмеяться – упаси боже! – но чтобы с подобающей вежливостью рассмотреть, как именно лучшие умы человечества раз за разом наступали на одни и те же элегантные грабли.
Мы проследим, как каждая эпоха изобретала свой способ вытягивания себя за волосы, искренне веря, что именно этот способ – правильный. Как каждый философ начинал с критики предшественников за то, что они не нашли основания, и заканчивал… не найдя основания, но объяснив, почему именно его неудача качественно отличается от всех предыдущих.
Особое внимание мы уделим тем редким мыслителям, которые имели мужество сказать: «А король-то голый!» Их немного, этих интеллектуальных героев, осмелившихся признать очевидное. История философии помнит их имена, но предпочитает не праздновать их правоту. Слишком неудобная правда для дисциплины, вся идентичность которой построена на поисках того, чего, по всей видимости, не существует.
В конце концов, что такое философия без вечных поисков основания? Возможно, что-то более честное. Возможно, что-то более полезное. Но определённо что-то менее… философское.
Итак, устраивайтесь поудобнее, наливайте чай (или что-то покрепче – для некоторых глав это будет не лишним), и давайте вместе проследим эту удивительную историю. Историю о том, как человечество две с половиной тысячи лет пыталось сделать невозможное и каждый раз находило новый, всё более изощрённый способ потерпеть неудачу.
История эта, при всей её комичности, исполнена своеобразного величия. Есть что-то трогательное в этом упорстве, что-то глубоко человеческое в отказе принять ограниченность собственного разума. Философы, при всех их заблуждениях, демонстрируют замечательное качество человеческого духа: способность биться головой о стену с таким достоинством и изяществом, что это становится искусством.
Барон Мюнхгаузен был бы горд. Или, скорее, вежливо удивлён тем, что его очевидная пародия была воспринята как руководство к действию. Впрочем, барон был человеком светским и, несомненно, оценил бы иронию ситуации.
В конце концов, если уж вытягивать себя за волосы, то почему бы не делать это с академическим достоинством, в мантии и квадратной шапочке, цитируя древних греков на языке оригинала?
Почему бы и нет, в самом деле.
Добро пожаловать в Достопочтенное общество искателей основания. Членство автоматическое, выход – через осознание.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: КАТАЛОГ ДОСТОПОЧТЕННЫХ ПОПЫТОК
Глава I. Античность: Когда всё пошло не так
В которой мы с сочувственным интересом наблюдаем, как лучшие умы человечества с энтузиазмом первопроходцев бросились искать то, чего не существует, и заложили традицию, которая продержится две с половиной тысячи лет
Представьте себе солнечное утро в Милете, примерно шестой век до нашей эры. Достопочтенный Фалес, человек несомненно образованный и проницательный – он ведь предсказал солнечное затмение, что по тем временам было сродни волшебству – внезапно задался вопросом, который испортит жизнь всем последующим поколениям философов. «Из чего всё состоит?» – спросил он себя и, не долго думая, ответил: «Из воды!»
Казалось бы, невинное начало. Что может быть естественнее для жителя портового города, чем предположить, что вода – основа всего? В конце концов, она повсюду: падает с неба, течёт в реках, окружает землю, содержится в живых существах. Логично? Безусловно. Обосновано? Вот тут, как сказала бы Алиса, всё становится страньше и страньше.
§1. Предыстория катастрофы: Досократики
Фалес, надо отдать ему должное, хотя бы выбрал что-то осязаемое. Воду можно потрогать, попробовать на вкус, в ней даже можно утонуть – солидное эмпирическое основание, не правда ли? Правда, когда его спросили, а из чего состоит сама вода, почтенный мудрец предпочёл сменить тему. Возможно, у него было предчувствие, что он только что открыл ящик Пандоры философских вопросов.
Его ученик Анаксимандр оказался сообразительнее. Он понял подвох: если всё из воды, то вода из чего? И с восхитительной греческой изобретательностью придумал решение – апейрон, что переводится как «беспредельное» или, если быть совсем честным, «непонятно что». Гениально! Если не можешь определить основание, назови его неопределимым. Это как если бы детектив объявил: «Убийца – тот, кого мы не знаем!» Технически правильно, практически бесполезно.
Анаксимен, ученик Анаксимандра (милетская школа явно не страдала от недостатка воображения в именах), решил, что апейрон – это слишком абстрактно даже для философов. Он вернулся к чему-то более приземлённому – воздуху. Всё есть воздух разной плотности: разрежённый воздух – огонь, сгущённый – вода, ещё плотнее – земля. Изящно, почти научно. Единственная проблема: а воздух-то откуда взялся? «Он всегда был,» – ответил бы Анаксимен. Ах, если бы всё было так просто!
Но настоящее веселье началось с Гераклита, того самого тёмного философа из Эфеса, который прославился изречением, что нельзя войти в одну реку дважды. Впрочем, его ученик Кратил справедливо заметил, что и один раз нельзя – пока входишь, река уже другая. Так вот, Гераклит заявил, что всё течёт, всё меняется, и основание всего – это… изменение! Основание, которое не стоит на месте. Как если бы фундамент дома постоянно переезжал, а дом почему-то оставался на месте. Барон Мюнхгаузен оценил бы такую диалектическую ловкость.
Парменид из Элеи возмутился таким легкомыслием. «Какое ещё изменение?» – вопрошал он. – «Бытие есть, небытия нет, и точка!» Его аргумент был безупречен в своей круговой простоте: бытие не может возникнуть из небытия (ибо небытия нет), следовательно, бытие вечно и неизменно. А почему бытие есть? Потому что оно есть! Quod erat demonstrandum, как сказали бы позже римляне, если бы не были заняты более практичными вещами вроде строительства дорог.
Ученик Парменида, Зенон, прославился своими парадоксами, доказывающими невозможность движения. Ахиллес никогда не догонит черепаху, стрела не летит, а покоится в каждый момент времени. Современники, наблюдавшие, как Зенон приходит на агору (явно двигаясь), вежливо покашливали. Но Зенон был невозмутим: если логика противоречит опыту, тем хуже для опыта. Восхитительное упрямство!
Эмпедокл попытался примирить всех, заявив, что основных элементов четыре: огонь, воздух, вода и земля. А чтобы объяснить, почему они соединяются и разъединяются, добавил ещё две силы – Любовь и Вражду. Шесть оснований вместо одного – щедрость, достойная философа! Правда, откуда взялись сами элементы и силы, Эмпедокл объяснить не удосужился. По легенде, он бросился в жерло Этны, чтобы доказать свою божественность. Вулкан выплюнул обратно только его сандалию – даже природа отказалась переваривать такую философию.
А потом явился Пифагор. О, Пифагор! Человек, который услышал музыку сфер и решил, что всё есть число. «Единица – точка, двойка – линия, тройка – плоскость, четвёрка – объём. Вот вам и вся реальность!» – провозглашал он своим ученикам, которым было запрещено есть бобы (по причинам, которые история милосердно забыла). Но когда один нечестивый ученик спросил, а что такое само число, Пифагор ответил нечто настолько таинственное, что даже его последователи не смогли договориться, что же именно он сказал. Возможно, он просто покашлял в ладонь – весьма британский способ избежать неудобного вопроса.
Наконец, появились атомисты – Левкипп и Демокрит. «Есть только атомы и пустота,» – заявили они. Блестяще! Всё состоит из неделимых частиц. А из чего состоят атомы? Они неделимы! А почему они неделимы? По определению! Если это не напоминает вам барона, вытаскивающего себя из болота, то вы, вероятно, невнимательно читали классику.
§2. Греческая трагедия в пяти актах
Но истинная трагедия началась позже, когда на сцену вышли главные герои античной философии. И как в любой приличной греческой трагедии, всё началось с пролога, в котором хор (в данном случае – скептики) предупреждает героев о тщетности их начинаний.
Пролог: Скептики видят будущее
Представьте себе сцену: Пиррон из Элиды, основатель скептицизма, спокойно сидит в тени платана, наблюдая, как другие философы с жаром спорят об основаниях мироздания. «А почему вы думаете, что основание вообще существует?» – невинно интересуется он. Тишина. Потом дружный хохот. «Конечно, существует! Иначе как бы всё держалось?»
Пиррон пожимает плечами. Его последователь Тимон записывает: «Учитель говорит, что ни о чём нельзя сказать, что оно больше такое, чем не такое.» Философы перестают смеяться. «Но это же абсурд!» – восклицают они. «Не больше, чем не абсурд,» – невозмутимо отвечает Пиррон и идёт обедать. Говорят, он был самым счастливым философом античности. Возможно, потому, что не искал то, чего нет.
Позже другой скептик, Агриппа, сформулирует пять тропов, показывающих невозможность окончательного обоснования чего бы то ни было. Особенно элегантен троп о взаимности: А обосновывается через Б, Б через А. Как два джентльмена, бесконечно уступающие друг другу дорогу в дверях клуба. Вежливо, но непродуктивно.
Секст Эмпирик, последний великий скептик, подытожит: искать основания – всё равно что искать начало круга. Можно начать с любой точки, но это не делает её первой. Академия отреагировала предсказуемо: «Интересная точка зрения, но мы продолжим искать.» Две тысячи лет спустя они всё ещё ищут.
Акт I: Сократ и его неудобное знание
Входит Сократ – босой, нечёсаный, с репутацией человека, который портит молодёжь вопросами. Его метод прост до гениальности: притвориться, что ничего не знаешь, и спрашивать других, откуда они знают то, что знают. Диалог обычно развивался так:
«Дорогой Евтифрон, что есть благочестие?» «Благочестие – это то, что угодно богам.» «А что угодно богам?» «То, что благочестиво.» «Но это же…» «О, смотрите, мне срочно нужно в суд!»
Сократ довёл искусство обнаружения отсутствия оснований до совершенства. За это его и отравили – весьма радикальный способ прекратить неудобные вопросы. Перед смертью он сказал, что смерть – либо сон без сновидений, либо переход в другое место, где можно будет задавать вопросы Гомеру. В любом случае – неплохо. Даже умирая, он троллил афинян.
Акт II: Платон строит пентхаус для оснований
Ученик Сократа Платон был потрясён казнью учителя. «Если в этом мире справедливости нет,» – решил он, – «значит, она есть в другом!» И придумал мир идей – эдакий метафизический пентхаус, где обитают совершенные формы всех вещей.
Теория была красива, как греческая ваза, и примерно так же практична. В нашем мире – несовершенные копии, в мире идей – совершенные оригиналы. Прекрасно! Но позвольте невинный вопрос: а откуда взялся мир идей? «Он вечен,» – отвечает Платон. А почему он вечен? «Потому что совершенен.» А откуда мы знаем, что он совершенен? «Потому что он вечен.»
Головокружительно, не правда ли? Как будто кто-то решил спрятать основание мира на чердаке, а потом убрал лестницу. «Но оно там есть!» – уверяет нас Платон. – «Я видел его глазами души!» Остальным предлагается поверить на слово. Или, как в знаменитой аллегории пещеры, сидеть и смотреть на тени, догадываясь об истинной реальности. Довольно удручающая метафора человеческого познания, если вдуматься.
Самое забавное в платоновской теории идей – это идея Блага, которая освещает все остальные идеи, как солнце освещает мир. Но что освещает идею Блага? «Она самосветящаяся!» – восклицает Платон. Барон Мюнхгаузен, вытаскивающий себя за волосы из болота, скромно курит в сторонке.
Акт III: Аристотель пытается быть практичным
Аристотель, ученик Платона, был человеком более приземлённым. «К чему эти метафизические выкрутасы?» – вопрошал он. – «Давайте исходить из того, что видим!» И создал систему категорий, причин и силлогизмов, которая две тысячи лет морочила головы студентам.
Его решение проблемы основания было элегантным в своей наглости: «Есть первые принципы, которые очевидны и не требуют доказательства.» Почему они очевидны? «Потому что разум их непосредственно усматривает.» А откуда разум знает, что усматривает правильно? «Это очевидно!»
Особенно трогателен перводвигатель Аристотеля – неподвижная причина всякого движения. Он движет всё, сам оставаясь неподвижным, как объект любви движет любящего. Романтично, но несколько… как бы это сказать помягче… несколько требует воображения. Это как если бы кто-то сказал: «Вот фундамент здания, он висит в воздухе, но держит всё остальное.» «Но как он висит?» – «Величественно!»
Аристотель также подарил нам учение о четырёх причинах: материальной, формальной, действующей и целевой. Каждая вещь объясняется через эти четыре причины. А чем объясняются сами причины? Достаточно сказать, что когда средневековые схоласты попытались это выяснить, они написали столько томов, что если их сложить, получится лестница до платоновского мира идей. Правда, непрочная.