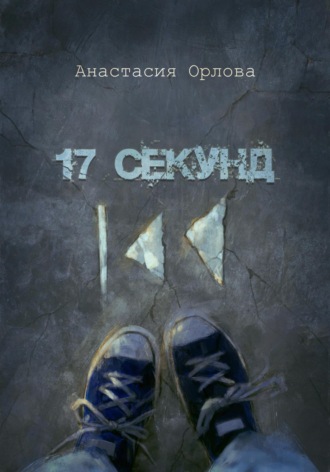
Полная версия
17 секунд

Анастасия Орлова
17 секунд
Пролог
2000 год
Московское небо качалось, ворочая серые массы створожившихся облаков, и сыпало пеплом. Денис медленно моргнул, пытаясь сфокусировать взгляд на летящих сверху мелких хлопьях. Пепел? Значит, всё уже произошло? Но почему тогда я до сих пор жив?
Небо ещё раз качнулось и замерло. Пепел продолжал падать, и Денис не сразу понял, что это всего лишь снег.
Снег. Не пепел. Весенний снег. Ничего ещё не было…
Он с трудом разомкнул слипшиеся губы в надежде поймать ртом снежинку – нестерпимо хотелось пить. Но снег над ним останавливала незримая преграда.
Стекло… Надо мной стекло. С неба падает снег. Ничего ещё не было…
Мысли переваливались тяжело и неуклюже, сталкиваясь раздутыми боками и наползая друг на дружку, пульсируя в голове тупой горячей болью. Чья-то лапа схватила Дениса за волосы и рванула вверх. Шею прострелило, мир кувыркнулся, пустой желудок беспомощно дёрнулся до самого горла. Перед глазами обозначились дерматиновые плечи автомобильных сидений, а в прорехе между ними, сквозь влажную пелену, размазанную дворниками по лобовухе, сигаретным огоньком тлел красный сигнал светофора.
Лапа вновь потянула Дениса за волосы, пытаясь привести его в ровное сидячее положение, чтобы не заваливался ни назад, ни вперёд. Красный сменился зелёным, и машина продолжила движение, а серое небо наверняка опять закачалось, но Денис его уже не видел.
– Кафир, живой? – прохрипел над ухом грубый бас с чеченским акцентом. – Погоди дохнуть, рано, рано! – приказал и добавил, словно харкнул: – Русская свинья!
Денис совсем не помнил, как его везли из Чечни в Москву. Память обрывалась на всаженной в вену игле во всё той же сырой холодной яме, в которой его держали несколько месяцев практически без одежды и еды.
«Это тебе на дорожку, кафир! Так у вас говорят?»
Кажется, он и сейчас был под чем-то тяжёлым, но, видимо, на меньшей дозе, раз пришёл в себя.
В голове, одно за другим, всплывали, словно густые пузыри в кипящем киселе, воспоминания, выстраиваясь в цепи событий последних недель плена. Он остался один – остальных либо замучили, либо обменяли. На последнее ещё могли надеяться срочники, но не контрактники, – контрактников убивали, да так, чтобы их потом сложно было опознать. Денис был контрактником.
– Тебе подарок, кафир! – однажды сообщил боевик, приходивший его пытать, и расхохотался сиплым лаем. – Ты сдохнешь не здесь, а на своей родине!
С тех пор по лицу его больше не били. Стали лучше кормить – чтобы он смог двигаться без поддержки, не шатаясь. А сейчас, застегнув на нём пояс шахида, везли в московское метро. В самый час пик они, запустив таймер, посадят Дениса в вагон в середине состава на конкретной станции, а сами останутся снаружи. Бомба взорвётся через две минуты – на одном из самых длинных перегонов.
В московском метро. В час пик…
В плену Дениса заставляли снять крест, принять их веру и умереть героем, на что он отвечал очень кратко и нецензурно – сквозь зубы, от боли стиснув челюсти до скрежета, и чувствовал, как на губах при каждом выдохе надувались и лопались тягучие кровавые пузыри. Он не надеялся выжить и хотел лишь одного: чтобы поскорее убили. Но не так.
Не так…
Пусть бы запытали, как сержанта Токарева, заживо освежёванного у Дениса на глазах. Но не так – подорвав его в толпе гражданских, превратив в террориста, в своего подельника, в невольного пропагандиста их извращённых идей.
Пустой желудок в очередной раз болезненно скрутило рвотным спазмом.
Денис прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться и продраться сквозь липкий наркотический туман.
Может ли он что-нибудь сделать? Успеет сделать хоть что-то?
В вагоне у него будет две минуты. Две минуты – это много, это очень много, когда твои руки, ноги и язык, а главное – голова служат тебе без перебоев, а не так, как сейчас, словно деревянные.
Но всё же – две минуты. Две минуты чтобы… Что?
Связаться с машинистом через блок экстренной связи. Убедить остановить состав и открыть Денису дверь. Выйти из вагона. И бежать, бежать на этих непослушных, будто вставленных ногах как можно быстрее и дальше – вглубь тоннеля. Тогда, может быть, пассажиры останутся живы…
…чтобы никто из пассажиров не погиб…
Денис вновь начал заваливаться назад и получил тычок под рёбра – то ли локтем, то ли прикладом.
– Не спи, кафир, почти на месте! Страшно умирать? – загоготал один из сопровождавших его чеченцев. – Страшно грязной русской свинье умирать, а, кафир? Ответь!
– Нет, – сипло выдохнул Денис.
– Что? Не слышу!
– Нет, – насколько мог громче повторил он, но вышло всё равно тихо.
– Не страшно?! – нарочито удивился боевик, и голос его взлетел до фальцета. – А что тебе страшно?
– Что за вашего после смерти примут…
Растрескавшиеся губы Дениса шевельнулись, но уже совсем неслышно.
Невинных убивать – страшно.
Он получил ещё один болезненный тычок, и голова его безвольно мотнулась в сторону. Боевики рассмеялись.
– Ты – кафир, – сказал один из них, – ты не один из нас. Ты – грязь! И сдохнешь среди грязи!
***
Кайя уступила место какой-то увешанной пакетами тётке, прислонилась спиной к дверям с надписью «не прислоняться» и, улыбнувшись себе под нос, погладила пальцем гладкий, будто глазурованный бочок маленькой фигурки в своём кармане. Это был львёнок из «киндер-сюрприза», Лев Силач, за которым она охотилась довольно долго, ища его по знакомым и подавая объявления в бесплатную газету. К дедову дню рождения не успела, но всё же ей повезло: какая-то женщина откликнулась на объявление и отдала игрушку совершенно бесплатно, лишь при условии, что Кайя сама к ней приедет и заберёт.
Наврав деду о том, что после школы ей сегодня нужно позаниматься в библиотеке, Кайя отправилась за львом чуть ли не на противоположный конец города, и вот теперь, счастливая, ехала с трофеем домой, предвкушая, как обрадуется подарку дед. Виду, конечно, не покажет: нацепит очки, возьмёт фигурку аккуратно, двумя пальцами, словно живую, и, поднеся к глазам, замрёт на несколько секунд, разглядывая. Кайя замечала, как он задерживает дыхание в такие моменты, и знала, что это означает высшую степень дедова восторга. Потом кивнёт со скупым одобрением и поставит фигурку в сервант, к остальной коллекции. А если кто из редких у них гостей вдруг спросит, – ответит, что это внучкины. Она, мол, не играет уже – пятнадцать лет, другие интересы, но ему жаль их выкинуть, вот и стоят, пыль собирают. А потом небрежно махнёт на собрание видеокассет с боевиками: вот, мол, где моя коллекция. И Кайя подтвердит, покрывая деда и пряча в уголках губ хитрую улыбку – кассеты-то как раз её, в отличие от «киндеров».
А «киндеры» никогда её особенно не интересовали, но дед, глядя, что всем детям покупают, стал покупать и ей. Он растил её с пяти лет, и со своей военной закалкой не умел быть ласковым воспитателем, но всегда искал возможности как-то порадовать единственную внучку и хоть чуть-чуть заменить ей родителей: неизвестного отца и уехавшую на заработки, да так и оставшуюся за границей мать.
И как-то незаметно дед сам втянулся в собирание фигурок, любил их подолгу рассматривать и переставлять в серванте, словно актёров на сцене. Об этой его слабости знала только Кайя: разве ж суровый с виду ветеран Афгана кому признается, что лучшим подарком ему на день рождения станет недостающий в коллекции львёнок или бегемот?
Так и жили: не признающий никаких нежностей дед, который собирал игрушки из шоколадных яиц, и отчаянно нуждающаяся в нежности Кайя, которая предпочитала девчачьим фильмам боевики. Единственные друг у друга, оба любили друг друга, но по-своему, молча, почти тайно – уж как умели. А дед, выпивши, бывало грустил:
– Ты за меня шибко не держись, Катеринка, я тебе не папка, я старый и столько, сколько он мог бы, не проживу. Брошу тебя, как твоя непутёвая мамка. Только вот гроб не заграница – оттуда даже денег хоть раз в год, на день рождения тебе, не прислать…
По паспорту Кайя была Катериной Витальевной Герц, но в малом возрасте не выговаривала собственное имя, и вместо «Кати» у неё получалось «Кака».
– Какая ты мне «Кака», твою ж мать?! – возмущался дед. – Ты Ка-тя! Ка-тю-ша. Ка-те-рин-ка. Ну-ка, повтори как следует!
Лучшее, что на тот момент у неё из этого вышло, прилипло к ней сначала прозвищем, а потом и кратким именем: Кайя, Каюша. Дед смирился: не «Кака», и то ладно. Посмеивался: «У Чип-и-Дейла Гаечка, а у меня – Каечка!»
Кайя улыбнулась, вспомнив деда ещё полным сил и почти молодым.
Нельзя сказать, что сейчас он дряхлый, но всё же выглядит теперь старше своих лет, и пусть спину держит всё так же по-военному прямо, но выпивает чаще – тайком от Кайи, но она всё равно знает. И знает, что сама является причиной всему этому. Точнее – её странный недуг, особенность, в которую ни дед, ни врачи не верили до конца – верили только в проявляющиеся симптомы, их и лечили, списывая первопричину на галлюцинации во время приступов загадочной вегетососудистой дистонии. Раньше Кайя и сама думала, что это всего лишь глюки, но опытным путём убедилась: нет, всё взаправду.
Пальцы сильнее сжали львёнка в кармане, в висках застучало – пока мягко, словно сквозь вату.
Кайя дёрнула головой, отгоняя подобравшиеся слишком близко тревожные мысли.
Всё хорошо, всё хорошо. Метро, толчея, пропахшие усталостью и мокрым весенним снегом люди. Нет никаких причин для паники. Глубокий вдох – медленный выдох. И ещё раз. Всё хорошо.
А ведь её способность могла бы стать даром, а не проклятьем. Могла бы спасать жизни, например. Да вот досталась не тому…
Кайя зажмурилась, стараясь подумать о чём-то другом. О том, как ей всё-таки повезло сегодня с этим львёнком. Как обрадуется ему дед, хоть виду и не подаст. И о том, что нужно не забывать дышать: глубокий вдох – медленный выдох. Вот так. Всё хорошо.
Она распахнула глаза, когда лязгнули открывшиеся на очередной станции двери. И нечаянно встретилась взглядом с одним из входивших в вагон мужчин. Он задержал на Кайе взгляд лишь на миг, но этого хватило, чтобы её продрал озноб.
Измождённый, заросший неопрятной щетиной, но на бомжа непохожий мужчина кутался в какой-то бесформенный ватник и смотрел так пронзительно и страшно, что Кайе вспомнился сбитый на её глазах дворовый Дружок – в последний момент пёс глянул на неё почти так же, только карими глазами, а не серыми.
Мужчина отвёл взгляд и, немного прихрамывая, прошёл дальше по вагону, украдкой озираясь по сторонам, а Кайе захотелось то ли выскочить прочь из поезда под уже звучащее «осторожно, двери закрываются…», то ли догнать незнакомца, схватить за рукав и… Спасти? Но от чего? А если и есть от чего, то что она может? Он же не дворовый Дружок, с которым ей хватило тех семнадцати секунд, чтобы не дать собаке попасть под колёса.
Сердце тревожно заколотилось, двери захлопнулись, поезд тронулся.
Незнакомец бросился к кнопке вызова машиниста, несколько раз остервенело её нажал, а потом треснул кулаком по стенке и, видимо, крепко ругнулся – штуковина, судя по всему, не работала.
Сидящие рядом люди неодобрительно переглянулись, какая-то пожилая женщина, похожая на математичку, сухо проронила что-то в его адрес – наверное, замечание. Но мужчина не отреагировал. На пару секунд он замер, словно поставленная на паузу видеозапись, а потом резко вскинул голову и прохрипел срывающимся, сиплым голосом, какой бывает у людей со сна или после долгого молчания:
– Внимание, это не учения! Я старший лейтенант Денис Одер, захвачен террористами, на мне бомба.
Он распахнул свой ватник, стоявшие ближе всего отпрянули, по вагону пронёсся сдавленный вздох-вскрик. Кто-то застыл, кто-то зашевелился, продираясь сквозь толпу подальше от бомбы. Кто-то закричал в голос, но Кайя слышала это уже словно сквозь подушку. С её плеча соскользнул и грохнулся на пол, больно ударив по ноге, висевший на одной лямке рюкзак.
Одер продолжал говорить, голос его обретал уверенную и спокойную силу и всё меньше подходил измученному лицу и почти неживому, обречённому взгляду. И его Кайя слышала отчего-то внятно и чётко, словно и не было вокруг гула метро, чьих-то вскриков и причитаний.
– Я не могу связаться с машинистом, чтобы остановить поезд и покинуть вагон, мне придётся обезвредить её прямо здесь, иначе через полторы минуты она взорвётся. Поэтому прошу всех отойти в конец вагона, опуститься на колени, пригнуться к полу и закрыть голову руками вот так. – Одер медленно и ясно показал, как. – Сохраняйте спокойствие, не толкайтесь, я её обезврежу, всё будет хорошо.
В висках Кайи запульсировал тугой плотный жар, ладони моментально стали ледяными и липкими, воздух закончился и в лёгких, и во всём вагоне. Она видела взгляд Одера и чётко понимала: он сделает всё возможное, но ни в какое «хорошо» он сам и близко не верит.
Кто-то настойчиво задёргал её за рукав, а потом и за руку – уже с силой притягивая к полу.
Боль в коленях, чья-то рука на её затылке приклоняет голову вниз, вжимая Кайю лицом в её же рюкзак.
– Пригнись, девочка, давай, вот так, не бойся, он сейчас всё решит! – зашептал рядом с Кайей толстый дядька, заставивший её опуститься на пол, и припечатал по голове своим дипломатом, пытаясь прикрыть от возможного взрыва.
Кайя хватала ртом воздух, словно издыхающая рыба, и, вывернув шею, в просвет между своим рюкзаком, дядькиным дипломатом и чьим-то задом одним глазом увидела пояс шахида на Одере, его тяжело вздымающуюся грудь и нижнюю часть небритого лица с плотно сжатыми, серо-синими губами. И его пальцы – без ногтей, зависшие над пучком проводков.
Одер сомневался, за какой дёргать. Секунды шли. Безвоздушный чёрный вакуум, похожий на глубоководное чудовище, сомкнул вокруг Кайи свои челюсти и силился её сглотнуть, но она упиралась и в зазор меж его зубов всё ещё чётко видела Одера.
Коснувшись одного из проводков, он в последний момент передумал и дёрнул за другой.
«Б-дь!» – прочла она по его губам и перестала сопротивляться, отдаваясь мучительному переходу, позволяя донному монстру всосать и заглотить себя полностью, а времени – отмотаться на семнадцать секунд назад.
– Пригнись, девочка, давай, вот так, не бойся, он сейчас всё решит!
Задыхаясь, Кайя рухнула на колени. После этих неконтролируемых переходов в прошлое, случавшихся с нею во время приступов паники, она не могла ни говорить, ни кричать, ни дышать. Суставы казались вывернутыми, движения причиняли боль, и она с трудом удерживалась в сознании, но всегда ясно помнила то, что было до перехода. И сейчас тоже: проводки на поясе шахида, те два, между которыми сомневался Одер, и тот из них, который он выбрал, но ошибся.
Повезло, что детонатор сработал не моментально.
Всё повторится точно так же, если она не вмешается. Всё повторится, но успеет ли её в этот раз выкинуть в прошлое до взрыва и выкинет ли вообще – неизвестно, скорее всего – нет. Времени мало, попытка только одна, и кроме Кайи некому выдернуть тот, другой проводок. Если, конечно, нужный проводок не окажется вообще третьим, не из тех двух, между которыми сомневался Одер…
Что есть сил она, задыхаясь, бросилась из-под прикрывавшего её толстяка к взрывчатке, но ноги подкосились, Кайя упала на колени прямо перед Одером, выбросила вперёд руку и успела дёрнуть за нужный проводок прежде, чем Одер перехватил её за запястье.
Кто-то заорал, Кайя зажмурилась и сжалась, Одер так стиснул пальцы на её предплечье, что едва не сломал ей руку, а потом – резко выдохнул.
– Бомба обезврежена, опасности нет, – хотел сказать он громко, чтобы все услышали, но голос сорвался, а сам он вдруг рухнул как подкошенный.
В вагоне наступила сумятица, с кем-то случилась истерика, кто-то бросился к Одеру, а Кайя, пользуясь всеобщей неразберихой, почти ползком пробралась к выходу и выскочила из вагона, едва тот открыл двери на следующей станции.
Ей не нужны вопросы, на которые она не сможет ответить. Ей не нужно лишнее внимание. Ей необходим лишь тихий угол, в котором можно отсидеться пару часов, дожидаясь, когда схлынет приступ ужаса, пройдёт удушье, вернётся голос, а ноги и руки перестанут казаться переломанными. Тогда ей останется лишь придумать, что она скажет деду про потерянный рюкзак, чтобы не расстраивать его очередным своим приступом, и надеяться, что никто в вагоне, включая этого Одера, не запомнил её лица.
Глава 1
2002 год
– Как общее самочувствие? – Лев Соломонович, сухонький сутулый психиатр с седой бородкой клинышком, задавал вопросы, не поднимая глаз на Дениса, и, услышав ответ, что-то помечал в его медкарте.
– Удовлетворительное, – без запинки отвечал Денис.
– Кошмары, головные боли не беспокоят?
– На дождь голова иногда побаливает, но терпимо.
Психиатр кивнул и вновь что-то отметил в бумагах.
– Дезориентация, галлюцинации, спутанность сознания? Может быть, навязчивые мысли?
– Никак нет.
Лев Соломонович кивнул.
Денису их беседы напоминали «морской бой»: Б-7? Мимо! З-5? Ранен! И-5? Убит!
Успех партии для Дениса зависел не столько от его ответов, в которых правды было с гулькин нос, сколько в его тоне и скорости реакции. Задумается чуть дольше или подпустит в голос сомнение – Лев Соломонович решит, что Денис что-то недоговаривает или приуменьшает. Ответит слишком быстро и уверенно – доктор заподозрит враньё.
Эту науку Одер постиг не сразу, но несколько месяцев в психушке оказались для него хорошей практикой.
И-и-и… финальный вопрос раунда!
– Лекарства принимаете грамотно?
Это «грамотно» всегда смешило Дениса, как будто прописанные таблетки можно было пить ещё и как-то «безграмотно».
– Разумеется, Лев Соломонович! – Он приподнял уголки губ в отрепетированной, как и его ответы, улыбке.
– Чудесно. – Психиатр закрыл карточку. – Наши дела идут очень хорошо, Денис Михайлович, продолжайте терапию. Вы сейчас где-то работаете?
– Нет, Лев Соломонович, военной пенсии мне вполне хватает.
– Вот и славно. Старайтесь пока избегать нагрузок, особенно психических.
– Ну отжиматься-то можно? – пошутил Денис.
– Без фанатизма, Денис Михайлович, без фанатизма. – Доктор протянул ему рецепт. – Если вновь появятся тревожные симптомы – незамедлительно обращайтесь.
– Так точно, Лев Соломонович, будет сделано! – козырнул Денис. – Разрешите идти?
– Ступайте, ступайте…
Одер удерживал благостное выражение на лице, пока не покинул территорию диспансера. Завернув за угол – так, чтобы его не могли увидеть ни из больничных окон, ни от ограды (хотя кому бы понадобилось за ним следить?), он привалился спиной к серой, обклеенной объявлениями стене и, запрокинув голову, в изнеможении выдохнул. Скомкал рецепт в кармане лёгкой ветровки, скатал его в мелкий шершавый комок и сделал глубокий медленный вдох.
Он ненавидел врать, но в случае с психиатром это был вопрос выживания: прописанные лекарства мало того, что «награждали» его всей неприятной побочкой, но ещё и превращали тридцатиоднолетнего Дениса в старика в глубокой деменции. Это его не устраивало, а другие препараты не подошли, поэтому он решил справляться самостоятельно, без таблеток, и перестал их пить.
Денис воровато оглянулся, отлепился от стены и нырнул в длинную арку с низким сводом. В нос ударил запах мочи, плесени и влажной штукатурки, в ушах завибрировало эхо собственных шагов. Никто следом не шёл, но не ускорить шаг Одер не смог – оставшиеся силы ушли на то, чтобы лишний раз не оглядываться.
Замедлиться до бесшумности перед выходом из тоннеля. Спиной к стене. Оружие наизготовку. Быстрый и внимательный взгляд по сторонам и особенно – по окнам: не сверкнёт ли где блик от оптического прицела… Вот дерьмо!
Он заставил себя остановиться – прямо посреди арки – и с силой потёр пальцами глаза, возвращаясь в реальность, из которой так легко и незаметно для себя вышагнул.
После посещений диспансера всегда становилось хуже – видимо, как раз от «психической нагрузки», требовавшейся, чтобы успешно выдержать плановый приём. Денис знал, что это временно, знал, что сейчас нужно успокоиться и особенно крепко держаться за окружающую действительность. Он старался изо всех сил, но реальность упрямо пропитывалась его воспоминаниями и кошмарами, словно вбирающая чернила промокашка, и он путался и терялся в них, как носок в пододеяльнике во время стирки.
Денис понимал, где находится, но не всегда понимал, что происходит, не мог отличить происходящее на самом деле от галлюцинаций и искал чеченских боевиков в спальных районах Москвы. Однажды нашёл – когда, уже комиссованный и прошедший лечение после плена, работал охранником в магазине.
Нерусский бородатый мужик в камуфляжке посреди торгового зала на кой-то чёрт полез во внутренний карман. Одер не помнил, как бросился на него и как его избивал, не помнил, как его оттаскивали – четверо, и им тоже досталось. Повезло, что мужик оказался крепким и отделался ещё достаточно легко…
Денис вывернул из арки, прошёл двор насквозь, свернул на другую улицу и через ещё один двор вышел к припаркованным в кармане стареньким «жигулям». Прежде чем открыть дверцу и сесть в машину, огляделся по сторонам и сам себя мысленно за это одёрнул: он не в Чечне, и уже давно.
В машине пахло привычно и успокаивающе: пластиком, дешёвым вокзальным кофе и ментоловой жвачкой. Опустив окно, Денис закурил. Сигареты и вождение хорошо его успокаивали, но в таком состоянии, как сейчас, помогут не сразу, и пока пассажиров брать нельзя. Он просто покатается по окраинам города, выкурит ещё сигарету, остановившись в каком-нибудь тихом дворе, и только потом поедет на вокзал – таксовать.
Психиатр после случая в магазине настоятельно рекомендовал ему не работать, и Денис прикидывался, что рекомендации соблюдает, да и работой своё теперешнее занятие особо не считал. Сам себе начальник, катался больше в своё удовольствие. Ещё и с просроченными правами, в которых, на случай, если остановят проверить документы, всегда лежала крупная купюра.
Жил он скромно, пенсионных выплат ему бы хватило, но он не мог без какого-то занятия вне дома. Наверное, оттого, что у него никогда не было собственного угла, где бы он не чувствовал себя приживальщиком.
Сразу после выпуска из детдома Денис пошёл в армию, потом перевёлся в спецназ, прошёл первую чеченскую войну, отучился в военном училище. А когда его комиссовали после плена во время второй чеченской, остался без служебного жилья и теперь снимал комнату у матери одного из своих погибших сослуживцев.
Тамара Алексеевна, вдова, потерявшая единственного сына, деньги с Дениса рассчитывала брать только за коммуналку, но он всё равно платил и за комнату – из принципа, иначе не мог. Она каждый раз глядела на него с укоризной, но отказываться перестала: знала, что, заведи она спор, он просто развернётся и уйдёт к себе в комнату, и денег обратно не возьмёт. Вместо этого она стала для него готовить, а он помогал по дому с «мужскими» хозяйственными делами. Отношения сложились добрососедские, но не близкие, – близких у Одера после плена и психушки не осталось вовсе.
Он часа полтора бесцельно колесил по улицам, а когда стало полегче, заехал в один из тенистых дворов, остановился напротив пятиэтажки, вышел из машины и закурил, присев на капот. Вокруг не было ни души. Даже скамейки, на которых обычно любили посиживать бабки, пустовали. В клумбах под окнами набирали бутоны ухоженные цветы; между низкорослыми кустами притаились страшные, как чума, лебеди из покрышек; по асфальту плясали солнечные блики, просочившиеся сквозь густую листву старых лип; под одним из балконов, рядом с вылизанным пластиковым блюдечком, дремал чумазый рыжий кот; пара ворон на детской площадке делили какую-то корку, время от времени хрипло переругиваясь.
Денис прикрыл глаза, стараясь пропитаться царившим здесь ощущением спокойствия, уюта и безмятежности, чтобы унести внутри себя хотя бы его малость и поселить в съёмной комнате с жёсткой кроватью, пыльным ковром на стене, обшарпанным комодом и старым продавленным креслом.
Вообще в квартирке Тамары Алексеевны наверняка могло быть уютно, особенно в маленькой кухне, под старым жёлтым абажуром, под шипение закипающего на древней плите чайника – тоже древнего, со сколами эмали по краю, но всегда до блеска начищенного. Могло, но не было, потому что холодок незаданных вопросов тянул жилы обоим, и молчание отдавало каким-то стылым и тревожным, как больничная тишина, напряжением.
Одер знал, что Тамара Алексеевна хочет узнать о сыне, о его последних днях, о плене и смерти, обо всём, чему Денис стал невольным свидетелем. Но спрашивать она не решалась, а он старался не дать ей для этого повода, потому что рассказывать такое, особенно матери, нельзя. А соврать, недосказать у него не получится – она почувствует, поймёт, и станет только хуже. Пусть уж лучше думает обо всём этом так, как ей сейчас думается – любой её домысел и на четверть не настолько страшен, как доподлинность.








