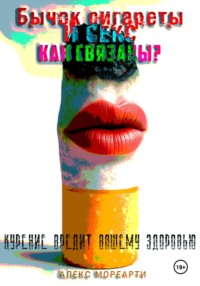Полная версия
Хроники Вечных: Сон в день рождения. Часть 2
И это пьяняло! Как же ее воспламеняло осознание того, что парни ждут ее, хотят до дрожи, до боли! Этот животный, голодный жар их похоти пронзал ее насквозь, заставляя все внутри трепетать от запретного восторга. И да, она сама сгорала в постыдных фантазиях, представляя до мельчайших подробностей, как сильные, горячие тела парней сплетаются с ее собственным, как они берут ее, снова и снова… Достаточно было одной мимолетной, грешной мысли об их руках на ее талии, об их губах на ее шее, об их напоре – и ее тело вспыхивало мгновенно. Низ живота сладко тянуло, а между бедер становилось невыносимо влажно и горячо, моля о прикосновениях. Секунды – и она уже плавилась, изнывая от неутоленного желания. Мастурбация на парней была в сотни раз красочней, чем самый лучший секс в ее жизни.
Когда последние крошки были собраны с тарелок, а вино в бокалах почти иссякло, оставив на стенках лишь рубиновые следы ушедшего праздника, Ванесса с грацией, которая казалась чуть напускной в этой повисшей тишине, взялась за нож, чтобы разрезать пышный торт. И в этот миг она почувствовала – скорее уловила боковым зрением, чем увидела прямо – как взгляды обоих парней, почти синхронно, скользнули к вырезу ее платья, задержавшись там на неуловимое мгновение.
Легкий румянец тронул ее щеки, и она поспешно перевела внимание на Сэма, который, оперевшись передними лапами о край стола, издавал тихие, полные собачьей тоски звуки. Его умные глаза неотрывно следили за каждым ее движением, в них плескалась отчаянная надежда на кусочек этого невероятно пахнущего, запретного чуда.
– Сэм, милый, перестань скулить так жалобно, – ее голос прозвучал мягко, но с нотками усталости. – Ты же знаешь, эта сладость не для тебя. Собакам вредно. – Она обернулась к Биллу, кончик ножа, испачканный белоснежным кремом, непроизвольно указал в его сторону, словно маленький белый флаг перемирия в их невысказанном напряжении. – Билл, сходи, пожалуйста, проверь шашлык. Если готов, отдели несколько кусочков для Сэма. Он ведь наш верный друг, заслуживший свою долю пира.
– Том, может, ты? Я же только что ходил, – с ноткой усталого раздражения в голосе ответил Билл.
– А я Ванессу возил в город за всем этим великолепием, – парировал Том, демонстративно скрестив руки на груди, в его тоне проскользнула тень превосходства. – Так что давай, братец, без капризов. Ножками топ-топ. Меньше слов, больше дела.
– Ну ты и охреневший, – выдохнул Билл, в его голосе смешались обида и привычное смирение перед старшим братом. Он резко отодвинул стул – звук неприятно царапнул по воцарившейся тишине – и вышел из комнаты. Сэм тут же спрыгнул с опоры, его хвост мелькнул в дверном проеме следом за хозяином, словно предЖанеттая тень, не способная существовать без своего человека даже пять коротких минут.
А Том, дождавшись, пока стихнут шаги брата и цокот когтей Сэма по коридору, сделал то, ради чего, казалось, и ждал этого момента весь вечер. Он осторожно, почти бесшумно, передвинул свой стул вплотную к Ванессе. Воздух между ними мгновенно сгустился, наполнился невысказанным, тяжелым ожиданием. Он собирался заговорить. Заговорить о том, что занозой сидело в его сердце, о вопросе, который рвал его душу на части уже много, много мучительных недель, лишая сна и покоя.
Тишина, повисшая после ухода Билла и Сэма, стала плотной, почти осязаемой. Том придвинулся ближе, слишком близко. Его колено почти касалось ее бедра, и Ванесса почувствовала, как волна непонятной тревоги поднялась в груди. Он молчал, собираясь с духом, его взгляд блуждал по ее лицу, рукам, скатерти – куда угодно, только не в глаза.
Наконец, он заговорил, голос был приглушен, словно он боялся, что стены услышат его тайну. Сначала – об Иоане. Том рассказал, как четыре дня назад, ожидая Ванессу на раскаленной от солнца парковке у торгового центра, он увидел его – жалкого, пьяного, валяющегося в пыльных кустах, словно выброшенная вещь. Рассказал, как отец, пуская пьяные слезы, лепетал о любви к ним, сыновьям, лез обниматься своими грязными руками, от которых пахло перегаром и безысходностью.
– Он твердил, что любит нас больше жизни, – Голос Тома дрогнул, в нем слышалась не только боль, но и темная ревность, которую он сам в себе ненавидел. – А потом я спросил про выпивку… просто спросил, почему он так себя губит. И он… он взбесился. Стал кричать, что я сопляк, что это не мое дело, гнал меня прочь…
Он замолчал, сглотнув комок в горле. Его кулаки на коленях сжались так, что костяшки побелели.
– Я потом… я сидел на ступеньках у входа, наверное, час… и просто ревел. Как дурак. Прямо там, у всех на виду.
Это было четыре дня назад. Четыре дня он носил эту тяжесть в себе, не делясь с ней, с той, кому, казалось бы, должен был рассказать в первую очередь. Ванессе стало не по себе от этой запоздалой откровенности.
– Томми… милый, почему же ты молчал? Почему сразу не рассказал мне об этом? – Ее голос был полон искреннего участия, но и легкой растерянности.
Том поднял на нее глаза, и в них была такая смесь обиды, стыда и отчаянной, болезненной любви, что Ванессе стало трудно дышать.
– Я обижен на тебя – Слова прозвучали как обвинение, как стон. – Мне… стыдно. За тебя стыдно. Я просто… я не знаю, как с тобой говорить после всего.
Ванесса замерла, ее лицо выражало полное недоумение.
– В каком смысле? Я не понимаю… На что ты обижен? Что я сделала?
– За прошлую неделю! – Его голос резко взлетел вверх, срываясь от невыносимой боли и ревности, которую он больше не мог сдерживать. – У тебя было четыре мужика! Четыре! – Он почти выплюнул это слово, подняв четыре пальца, словно предъявляя неопровержимую улику ее предательства – предательства его чувств, его надежд. Он смотрел на нее с мучительной надеждой услышать опровержение, объяснение, которое могло бы хоть немного унять огонь, пожиравший его изнутри. – И это только за одну неделю! Ты стала известнее любой голливудской звезды в этом городишке! Думаешь, я не знаю?! Думаешь, мне приятно?! Знаешь, что у меня спросили какие-то ублюдки на парковке, когда я там стоял, ждал тебя, как идиот?
Его грудь тяжело вздымалась, лицо пылало.
Ванесса смотрела на него широко раскрытыми, испуганными глазами.
– Не… не знаю, Томми… Что они спросили?
– Они спросили, как у тебя дела! И просили передать тебе привет! От них! Понимаешь?! Они говорили так, будто… будто ты принадлежишь всем! Будто каждый может… – Он осекся, не в силах произнести то, что рисовало его воспаленное воображение, то, что сводило его с ума от бессильной ярости и желания.
Слова Тома, острые, как осколки стекла, вонзились в Ванессу, и волна густого, горячего смущения залила ее лицо, шею, подступила к самому сердцу. Она никогда… никогда не говорила с парнями о своей жизни. Ее личная жизнь была ее тайной гаванью, ее хрупким щитом от боли прошлого. Она и представить не могла, что ее отчаянные попытки залечить разбитое сердце, бросаясь в объятия случайных мужчин, словно в ледяную воду, могут так болезненно рикошетить по парням. Она увидела в его глазах – или ей так показалось – тень стыда за нее, и от этой мысли ее собственное сердце сжалось в тоскливый комок.
Какая ирония. Какая слепая, трагическая ошибка. Она приняла его ярость, его кипящую, собственническую ревность за стыд. Она не ведала, что каждый ее новый любовник был для Тома личным врагом, узурпатором, занявшим место, которое он сам жаждал занять всеми фибрами своей искалеченной души. Он ненавидел их лютой ненавистью, ежесекундно мечтая оказаться на их месте, прожить их жизнь, хотя бы на одну ночь, лишь бы быть с ней, касаться ее, обладать ею так, как, по его убеждению, на нее имела право только его кровь, его плоть. Но Ванесса… она и на тысячную долю не могла вообразить бездну этой всепоглощающей любви-одержимости.
И потому, движимая благим, но совершенно неверным намерением, она решила объясниться. Успокоить его, как ей казалось, развеять его тревоги. Она не знала, что ему нужны были не жалкие оправдания ее мимолетных связей, а слова, которые перевернули бы мир: признание, что она без ума от него, обещание, что теперь они будут вместе, всегда, вдвоем, против всего света.
– Том, посмотри на меня, – ее голос дрогнул, но она постаралась придать ему твердость. – Кого ты видишь?
– Эмм… в смысле? – Он моргнул, сбитый с толку этой внезапной сменой темы, его внутренняя буря на мгновение затихла перед ее вопросом.
– В прямом, Том. Кого ты видишь перед собой? Ответь честно.
– Эмм… – Он запнулся, слова застряли в горле, взгляд метнулся к ее губам и тут же испуганно вернулся к глазам. – Ну… Тебя. Ванессу. – Последнее слово прозвучало глухо, почти сдавленно.
– Ты не понял меня, Том, – Ванесса издала короткий, нервный смешок, пытаясь разрядить обстановку. Но этот смех ударил Тома под дых. В его голове мгновенно взорвались горькие, ядовитые вопросы: «Почему она смеется?! Я обвиняю ее в том, что она спит со всем городом, а она смеется?!», «Почему эти чужие, безликие мужики могут касаться ее, а я – нет?! Почему не я?!»
– Попробуй еще раз, – продолжила Ванесса, не замечая бури в его глазах. —Просто смотри на меня. Кто перед тобой?
– Ну… я… я не знаю, – выдавил Том, его голос стал еще более неуверенным, словно он боялся произнести неправильное слово, которое разрушит этот хрупкий, напряженный момент.
Ванесса глубоко вздохнула, собираясь с духом.
– Девушку, Том. Ты видишь перед собой девушку. – Она сделала паузу, обвела его взглядом, в котором смешались какая-то новая, непонятная ей самой робость. – И хочу заметить, очень красивую! – Она сказала это с легким вызовом, но тут же смутилась собственных слов. – Мне… мне ужасно стыдно, Томми, и невероятно неловко говорить с тобой об этом. Поверь. Но раз уж ты… раз ты начал думать, что твоя я… – она запнулась, подбирая слова, – что я какая-то шалава… то мне придется объясниться. Другого выхода я не вижу.
Глубоко вздохнув, словно ныряя в ледяную воду, Ванесса продолжила. Ее голос стал тише, но в нем звенела сталь пережитой боли.
– Иоан… он не живет здесь уже три года. Целых три года, Том. У него теперь своя жизнь, свои… собутыльники. Друзьями их назвать язык не поворачивается. Они просто пьют. Днями напролет, неделями, пока не свалятся. – Она горько усмехнулась. – Он… он страшно обидел меня, Том. Не просто обидел – он растоптал что-то внутри. Когда началось это пьянство, он стал поднимать на меня руки. Сначала просто толчки, потом удары… с каждым разом все злее, все жесточе. Он перестал быть человеком. Он… он стал вонять, понимаешь? Как ходячая помойка, как канализация. Я мечтала лишь о том, чтобы спать на другой кровати, в другой комнате, подальше от этого запаха, от его храпа, от его пьяного бреда… о каком сексе могла идти речь?
Том густо покраснел. Его щеки вспыхнули огнем смущения, которое боролось с нездоровым, жадным любопытством. У него никогда не было девушки, и сам разговор о сексе – особенно с Ванессой – заставлял его чувствовать себя неловко, почти грязно. Но в то же время, каждая ее фраза притягивала его, как магнит, заставляя ловить каждое слово, впитывать ее боль, ее откровенность, которая казалась ему чем-то интимным, почти запретным, предназначенным только для его ушей.
– …он меня унижал, – голос Ванессы снова дрогнул, зазвучал надтреснуто, – он меня избивал… Я молчала. Я не хотела, чтобы вы… чтобы вы потеряли последнее уважение к отцу. Чтобы ваша жизнь было отравлено этой грязью.
Ванесса никогда бы не решилась на это признание, будь она трезва. Но несколько рюмок водки развязали язык, выпустили на волю призраков прошлого.
– Он… он заставлял меня… заставлял заниматься сексом с собой. Против моей воли. Он меня насиловал. Грязный, потный, вонючий. А потом… потом я просто больше не смогла. Я вышвырнула его. Сказала, чтобы ноги его больше не было в этом доме. Я его ненавижу, Том. Каждой клеточкой ненавижу. И видеть его больше не хочу. Никогда.
Она замолчала, тяжело дыша. Потом подняла на него глаза, и в них блеснул вызов.
– Но я девушка, Том. Понимаешь? Женщина. Мне нужен мужчина. Мне всего тридцать восемь! Я, черт возьми, прекрасно выгляжу! Я могла бы быть моделью, сука! – Ее голос окреп, в нем появилась звенящая нота обиды. – И что ты предлагаешь?! Чтобы я заперлась в четырех стенах, обложилась подушками и смотрела дурацкие сериалы про домохозяек?! Чтобы я похоронила себя заживо, отказалась от элементарного женского желания, потому что тебе стыдно?!
Она повысила голос, почти срываясь на крик. Ее взбесило это обвинение в распутстве, эта слепота, это нежелание заглянуть за фасад, увидеть кровоточащую рану в ее душе.
– Я люблю секс, Том! – выкрикнула она, и это прозвучало как вызов, как манифест. – Да, люблю! Это, может быть, лучшее, что осталось в моей проклятой жизни! Но где мне найти нормального мужчину для серьезных отношений? Здесь?! В нашей дыре?! Ты знаешь, что здесь одни алкаши да женатики! А уехать я не могу! Эта ферма – все, что у меня есть! Поэтому да, я просто занимаюсь сексом! Ты… – она осеклась, ее голос снова упал до шепота, полного безысходной усталости. – Ты еще мальчик. У тебя его никогда не было. Ты не можешь понять, как… как это иногда помогает. Да всегда, блять. Хотя бы на час, на два… забыться. Когда твоя душа горит огнем, когда боль такая, что хочется выть на луну. Ты просто не знаешь…
Слезы покатились по щекам Ванессы – крупные, горячие, смывающие остатки ее бравады на лице. Она отвернулась, уставившись на подрагивающие язычки пламени на оплывших свечах, словно ища в них утешение или ответ. А Тома накрыло ледяной волной вины. Это он. Это из-за него она плачет. Из-за его эгоистичных, грязных вопросов Ванесса сейчас сидит напротив, сломленная и печальная.
В его голове царил хаос. Этот разговор… он прокручивал его сотни раз. В его сценарии она должна была сломаться под его напором, признать свою неправоту, устыдиться, извиниться. Он представлял, как она, плача, будет каяться, а он, великодушно, простит ее, и это станет первым шагом к тому, чтобы она отказалась от всех этих никчемных мужиков ради него.
Но все пошло наперекосяк. Она не каялась. Она защищалась. Она гордилась своей свободой, своей сексуальностью, своей силой противостоять боли через секс. И Том потерялся. Все его заранее заготовленные слова, обвинения, манипуляции рассыпались в прах. Он просто не знал, что сказать, что делать дальше. Его мозг, казалось, завис, перегруженный противоречивыми сигналами: вина, ревность, обида, и теперь еще и эта оглушающая растерянность.
А Ванесса, глядя на танец огня на свечах торта, не замечала застывшего, опустошенного лица Тома. Разговор всколыхнул ил на дне ее души, подняв на поверхность всю ту боль, которую она так тщательно прятала от мальчиков годами.
– Иоан… он стал для меня совершенно чужим человеком, – тихо проговорила она, голос все еще был влажным от слез, но уже спокойнее. – Когда-то все было иначе. Мы были счастливы, Томми. Почти не ссорились. Я ведь и подумать не могла, что в моей жизни будет кто-то еще, кроме него… Мы же знакомы с четырех лет, представляешь? Всю жизнь… Но алкоголь… он убил того человека, которого я любила. Убил его душу. А я… я ведь не каменная. Мне хочется тепла. Хочется, чтобы меня любили, обнимали… Хочется чувствовать себя желанной, сексуальной. – Она снова посмотрела на него, уже без гнева, с тихой мольбой в глазах. – Не считай меня шлюхой, Том. Пожалуйста. Не думай обо мне так, как ты думаешь сейчас. Просто… есть вещи, которые ты пока не можешь понять. Не хватает тебе еще… опыта жизненного.
И так же внезапно, как начала плакать, Ванесса успокоилась. Слезы высохли. Глубоко внутри нее зияла пустота, которая жаждала быть заполненной словами, признаниями, и этот разговор стал тем самым ключом, той отмычкой. Потребность высказаться была удовлетворена, и в награду мозг щедро плеснул в кровь эндорфинов и серотонина. Напряжение спало, оставив после себя странное, почти невесомое спокойствие.
Уже не грустная, а умиротворенная, даже слегка парящая, Ванесса сделала то, чего Том никак не ожидал. Она мягко опустила голову ему на плечо. Ее волосы коснулись его щеки, обдав знакомым, сводящим с ума ароматом ее шампуня с ароматом роз и духов Шаннель. Его белоснежная рубашка мгновенно впитала темные разводы от потекшей туши, оставив неаккуратное пятно, как улику их близости.
Том замер. Он даже не успел осознать момент, когда волна острого, почти болезненного удовольствия прокатилась по его телу от этого простого жеста. Ее тепло, ее запах, тяжесть ее головы на его плече – все это смешалось в гремучий коктейль, от которого перехватило дыхание и закружилась голова. Вина и растерянность на мгновение отступили перед этим ошеломляющим ощущением.
Он не заметил. Но его тело – заметило. Его член, твердея под джинсами, отреагировал мгновенно и неоспоримо. А Ванесса, прикрыв глаза и наслаждаясь моментом покоя, почувствовала это. Она ощутила это напряжение сквозь тонкую ткань его брюк, прижавшись к нему чуть плотнее. И ее новообретенное спокойствие тут же дало трещину, уступая место холодному, тревожному изумлению.
Но хрупкий, наэлектризованный кокон момента, о котором Том так долго мечтал, лопнул, пронзенный реальностью. В комнату, словно маленький вихрь, ворвался Сэми, радостно вопящий, с огромным куском дымящегося шашлыка во рту. Жирный мясной сок капал с его подбородка прямо на белоснежный ворс хлопкового ковра, оставляя темные, расползающиеся пятна. Но Ванесса, все еще плывущая в облаке послеразговорного катарсиса и легкого шока от своего недавнего открытия, даже не обратила на это внимания. Мысль о том, что завтра она устроит Биллу разнос за испорченную вещь, просто не пришла ей в голову. Ее мозг был занят другим.
Следом за Сэми, неторопливо, вошел Билл, неся в руках шампуры с еще шипящим мясом. Густой, дразнящий аромат жареного тут же вытеснил тонкие нотки духов и свечей, заполнив комнату простой, земной реальностью. Билл окинул взглядом Ванессу и брата – их слишком близкую позу, раскрасневшиеся, отекшие от слез и эмоций лица. Он не стал спрашивать, о чем они говорили и почему так странно обнимались. Он ненавидел эти «сопливые» разговоры, погружения в чужие душевные терзания. Сейчас ему хотелось простого – выпить, поесть мяса, посмеяться.
Поэтому, чтобы разогнать повисшую в воздухе тягучую неловкость, он отпустил пару своих фирменных черных шуточек – что-то про пролитые слезы, которые отлично замаринуют мясо, и про то, что с такими опухшими лицами их можно снимать в фильме ужасов без грима. К удивлению, это сработало. Напряжение спало. Ванесса, все еще чувствуя легкое головокружение, рассмеялась первой – искренне, почти с облегчением. Том, с трудом вынырнув из омута своих чувств, тоже выдавил смешок, благодарный брату за это вторжение, которое одновременно и спасло его, и лишило заветного мгновения.
Все уселись за стол. Шампуры легли на большое блюдо, запахло еще сильнее. Началась трапеза. Сэми уплетал за обе щеки, Билл разливал остатки водки, Ванесса пыталась включиться в общую атмосферу, хотя мысли ее то и дело возвращались к тревожному ощущению мгновение назад. Том ел молча, механически, все еще ощущая фантомное тепло ее головы на своем плече и холодный укол вины, смешанный с горящей искрой неудовлетворенного желания.
– Мам, ты никуда не уходи, ладно? Мы сейчас, – сказал Том, поднимаясь из-за стола. Билл последовал за ним. – Куда это вы? – Ванесса удивленно подняла бровь. – Сюрприз! – хором ответили братья и скрылись в коридоре.
За дверью гостиной разыгрался древний ритуал: «камень-ножницы-бумага». Выпало выступать Биллу первым. Через пять минут, пока Ванесса пыталась угадать, что задумали ее мальчишки, дверь снова открылась.
На пороге стоял Билл. В нелепом, явно с чужого плеча, блестящем фиолетовом костюме фокусника с помятым цилиндром на голове. Ванесса ахнула. Она была совершенно не готова к такому. Парни впервые в жизни приготовили для нее что-то особенное, потратили свои скудные деньги, свое время. Волна чистой, незамутненной нежности и радости захлестнула ее, смывая остатки тяжелых мыслей. На ее лице расцвела широкая, искренняя улыбка.
– Та-даам! – объявил Билл, стараясь говорить загадочным баритоном. – Великий Билдини приветствует вас на представлении магии и волшебства!
Он вошел в центр комнаты и начал свой маленький концерт с самого известного фокуса в мире – «кролик из шляпы». Правда, кролика во всей их деревне днем с огнем было не сыскать, поэтому Билл решил использовать другого недавнего «питомца». Он картинно постучал палочкой по цилиндру и с важным видом засунул туда руку.
– А сейчас, дамы и господа… извольте видеть!
И он торжественно извлек из шляпы… белоснежного голубя. Того самого, что неделю назад устроил в их доме настоящий переполох. Ванесса вспомнила то утро. Это было еще до рассвета, то самое время, когда снятся самые яркие, самые странные сны. Будильнику оставалось звенеть еще полчаса, но всю семью буквально выдернуло из сна, будто по армейской команде «Рота, подъем!», остервенелым лаем Сэми. Он носился по дому как угорелый, и лай его эхом разносился по комнатам, словно в пещере. Братья не сразу поняли, что происходит, пока не увидели причину переполоха – под самым потолком металась крупная белая птица. Том потом клялся, что закрывал на ночь окно на кухне, но факт оставался фактом – в дом проник незваный гость. Голубь летал как сумасшедший, бился о стены, и поймать его казалось нереальным. Сэми заливался лаем, подпрыгивая и щелкая зубами в воздухе. И тогда Биллу пришла в голову спасительная мысль. Он сбегал в сарай и вернулся с отцовским рыбацким сачком на длинной ручке. Один точный взмах – и птица забилась в сетке.
Самое странное случилось потом. Как только Билл осторожно высвободил летающий будильник из сетки и опустил на пол, голубь, секунду назад казавшийся исчадием ада, совершенно в мгновение успокоился. Он сидел смирно, не пытаясь улететь, и даже позволил Биллу взять себя в руки – вещь почти невероятная для дикой птицы, если она не привыкла к человеку с птенячьего возраста. Он просто доверчиво устроился на ладони Билла, хлопая черными бусинками глаз. А Сэми, возмущенный таким нежным обращением с нарушителем его территории, продолжал яростно лаять. Биллу пришлось строго цыкнуть и даже замахнуться на пса, чтобы тот угомонился. Сэми тогда страшно обиделся. Его, верного стража, отчитали за то, что он пытался спасти хозяев от опасности! И хоть пес не мог выразить это словами, его понурая морда и поджатый хвост ясно говорили: в следующий раз, когда кто-то нарушит периметр, он промолчит. Пусть сами разбираются.
И вот теперь этот самый голубь сидел на руке Билла, играя роль циркового кролика. Ванесса смотрела на Билла в дурацком костюме, на доверчивую птицу, и смех пузырьками поднимался из глубины души, стирая все следы недавних слез и тяжелых мыслей.
На удивление всех, кроме, пожалуй, самого себя, голубь оказался совершенно ручным. Он не просто позволял себя гладить, но и активно искал контакта. Когда Билл, проверяя, не улетит ли он навсегда, выпускал его на улице, птица делала круг и неизменно возвращалась, мягко приземляясь ему на протянутую руку или плечо. Он явно не собирался покидать свой новый дом. Братья, очарованные таким поведением, соорудили ему жилище из старой коробки из-под телевизора, выстелив ее сеном для мягкости. Этот импровизированный «голубятник» поставили на балконе их общей с Томом спальни на втором этаже. Теперь гость мог свободно улетать по своим птичьим делам и возвращаться, когда ему заблагорассудится.
– Хех, это точно судьба! – сказал Том Биллу тем же вечером, когда они готовились к представлению, осторожно усаживая спокойную птицу в цилиндр. – Кроликов нигде нет, и тут – вжух! – прилетает идеальный голубь-артист.
И как же причудливо устроена человеческая психика! Когда что-то вызывает у нас яркие, приятные эмоции, мозг услужливо маркирует это как «безопасное», отметая любые тревожные сигналы. Родители могут морщиться от грязной любимой игрушки ребенка, не понимая, как он с ней играет, в то время как для малыша она – целый мир, и пятна на ней не существуют. Влюбленная девушка может годами не замечать, что живет с настоящим эмоциональным вампиром, питающимся ее душой, потому что ослеплена иллюзией любви. Так и здесь. Ни Ванесса, ни братья ни разу всерьез не задумались, насколько невероятно странно поведение этого голубя. Птица, которая по всем законам природы должна была дичиться и бояться людей после стресса поимки, с первого же дня вела себя так, словно всю жизнь прожила с ними. Она выполняла простейшие «команды» – сесть на руку, полететь к окну, вернуться в коробку – с послушанием, которому позавидовала бы и дрессировЖанеттая собака. Были даже моменты, когда казалось, будто голубь реагирует на случайно оброненные фразы, делая именно то, о чем говорилось.. Он часто замирал и пристально, не отрываясь, разглядывал людей, переводя взгляд с одного на другого, скользя им снизу вверх, словно оценивая. Такое внимательное, изучающее наблюдение было характерно для человека, но никак не для птицы. Но разум, очарованный удачей и новизной, отмахивался от этих странностей, как от назойливой мухи.