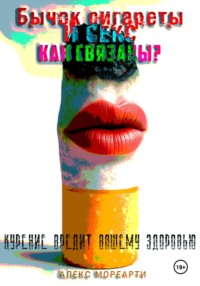Полная версия
Хроники Вечных: Сон в день рождения. Часть 2

Алекс Мореарти
Хроники Вечных: Сон в день рождения. Часть 2
Глава 1:
Авеню Гардет, 10 Стрит…
Братья Уорены были забавными малыми. В них всегда искрилась та неудержимая, слепящая энергия детства, когда мир кажется бескрайним полем для подвигов. Их вселенной было старое футбольное поле, заросшее жгучей крапивой. В детских руках обычные палки превращались в рыцарские мечи, а сорняки – в исполинское вражеское войско, наступающее на их хрупкое королевство. Они были последними его защитниками, два юных рыцаря, выживших в кровавой сече, два брата, на чьих плечах лежала судьба мира. Билл – пламя рыжих волос, обрамлявшее лицо с глазами цвета глубоких, чистых изумрудов. Том – темноволосый, с глазами-хамелеонами, что вбирали в себя небо и время года: зимой они отливали холодной, почти ледяной синевой, а с приходом тепла мутнели, становясь пепельно-серыми, как грозовое небо. Такие разные внешне, но кровь в них текла одна, отцовская. Иоан, их отец, – высокий, атлетичный исполин с той же огненной копной волос и пронзительными изумрудными глазами, что и у Билла. Но за этой внушительной статью уже тогда таилась тень, предвестник бури.
В их доме жила девушка – Ванесса. Ее волосы цвета лунного серебра ниспадали на плечи, словно у сказочной принцессы, случайно забредшей в их простую деревушку. Вся женская половина поселения тихо сгорала от зависти при виде ее колдовской, природной красоты, ее лица, словно выточенного ангелом, ее фигуры, от которой замирали сердца. Когда Ванесса ступала по пыльным улочкам, мужчины теряли голову в пьянящем дурмане гормонов, их взгляды жадно провожали ее ускользающий силуэт, ее летящую походку. Каждый мечтал коснуться ее, заполучить, увлечь в объятия. И это слепое желание не угасало даже тогда, когда Иоан, снедаемый темной ревностью, узнавал об очередном поклоннике, и запись к местному травматологу для незадачливого ухажера становилась неотложной.
Том и Билл… Их души сплелись с самых первых дней. Они дышали одной любовью, чистой и глубокой, как горный родник. Неразлучные, они делили все – секреты, мечты, тихие вечера под звездным небом. Ванесса, как хрупка среброволосая фея, окутывала их своей безграничной нежностью. Даже сквозь вечную нужду и нехватку денег она умудрялась находить для них маленькие сокровища – заветные игрушки, яркие журналы, альбомы для раскрашивания. Ее любовь была тем щитом, что хранил их мир. Взращенные в этой атмосфере абсолютного принятия, Том и Билл не знали ссор, не ведали ядовитой ревности из-за внимания – того самого чувства, что так часто отравляет отношения родных братьев и сестер.
«Мне ли не знать, мне, кто вел ежедневные баталии с двоюродной сестрой за право спать рядом с бабушкой!»
Им же такое и в голову не приходило. Они выросли с нерушимой клятвой в сердце: всегда, во что бы то ни стало, стоять друг за друга горой.
Но даже самые крепкие нити рвутся. Даже самая чистая любовь не вечна под этим холодным небом. Закон Вселенной неумолим: всему приходит конец. И для братьев Уоренов этот безжалостный, сокрушительный конец наступил слишком рано, оборвав их юность на взлете. Приговор был вынесен звездами или судьбой – 23 мая 2003 года. Место исполнения – дом на Авеню Гардет, 10 Стрит. В тот самый день, когда им исполнилось восемнадцать. День, что должен был стать рассветом взрослой жизни, обернулся непроглядной ночью. Точкой невозврата.
– Билл, милый, неси же торт скорее! Семи уже подвывает, так по тебе соскучился! – Голос Ванессы, обычно звонкий, прозвучал с кухни чуть устало, но тепло.
– Да, уже несу!
Семи… Белоснежный лабрадор, живое воплощение преданности, подаренный Биллу на пятнадцатилетие близким другом семьи. Для Семи существовал лишь один центр вселенной – Билл. Его слово было законом, его присутствие – единственной реальностью. Ни Тому, ни тем более Иоану пес не позволял даже мимолетной ласки, если хозяина не было рядом. Он рычал глухо, напряженно, не позволяя чужой руке нарушить их с Биллом пространство. Несколько раз его клыки стали последним аргументом против Иоана. Это случалось в те страшные ночи, когда отец, одурманенный пьяным угаром, врывался в комнату Билла, изливая на сына свою черную желчь и горечь. Лишь командуя, унижая того, кто не смел перечить, Иоан чувствовал себя мужчиной, отцом. Он упивался этой жалкой властью над покорной душой, ибо глубоко внутри корчилось, извивалось червем осознание собственного ничтожества, и эту зияющую пустоту нужно было чем-то заполнить. Но Семи видел слезы на лице своего мальчика. Видел страх в его изумрудных глазах. И тогда пес становился защитником. Две глубокие отметины на ноге Иоана, заставившие его неделю ковылять на костылях, стали суровым уроком. С тех пор он больше не рисковал вымещать злобу на сыне – по крайней мере, в присутствии пса. Иоан стал обходить Семи десятой дорогой, чувствуя на себе неотступный, тяжелый взгляд умных собачьих глаз. А Семи… Семи продолжал следить. Настороженно. Неотрывно. Словно чувствуя, что настоящая беда еще впереди.
Глухой удар сотряс ветхую дверь – это Билл, с трудом удерживая в руках большой шоколадный торт, пнул ее ногой, чтобы войти. В ту же секунду Семи, дремавший у давно не топленной печи, вскочил на все четыре лапы. Его хвост заработал как пропеллер, и он принялся радостно нарезать круги вокруг ног Билла, приветствуя хозяина и предвкушая, возможно, кусочек праздничного угощения.
Этот день рождения, как и многие до него, они встречали в тесном, удушливом кругу: Билл, Том и Ванесса. Друзей у братьев не было – да и откуда им взяться? Вся их жизнь, с раннего детства, была подчинена одному – ферме. Бесконечная работа на земле, с животными, под палящим солнцем и проливным дождем, была их единственным миром, единственным средством к существованию.
Решение не отдавать братьев в школу Ванесса приняла много лет назад, когда они были еще совсем маленькими. Она обставила это как акт мудрости: «Школа – пустая трата времени, мальчики мои. Зачем вам протирать штаны за партой, когда настоящая жизнь – вот она? Работайте с малых лет, учитесь делу, и когда вырастете, будете настоящими хозяевами, сможете расширить нашу ферму, и денег у нас будет еще больше!»
Но за этим благовидным предлогом скрывалась жестокая правда, которую Ванесса гнала от себя с брезгливым отвращением, едва та осмеливалась промелькнуть в ее мыслях. Правда о том, что она просто не хотела тратиться на наемных рабочих, что братья были для нее бесплатной, безотказной рабочей силой, которую она беспощадно эксплуатировала с их детства. Признать это – означало бы признать себя плохим человеком. А разве она, Ванесса, с ее неземной, даже сейчас, в зрелые годы, ослепительной красотой, могла быть плохой? Нет, это было немыслимо. Красота была ее щитом, ее оправданием, ее верой.
Полная изоляция от сверстников, отсутствие нормального общения за пределами фермы и всепоглощающей гиперопеки сделали свое дело. Девушек у братьев никогда не было. Но если проблема Билла заключалась в патологической, парализующей застенчивости – он мгновенно заливался краской, язык прилипал к небу, а мозг превращался в вязкую кашу при любой попытке заговорить с женщиной, даже с пожилой продавщицей в сельском магазине, – то проблема Тома была иной, глубже и страшнее.
Его душа была выжжена безответной, всепоглощающей любовью, которая расцвела ядовитым цветком в его сердце еще в тринадцать лет. Это была не просто любовь – это была одержимость, священный трепет и грязное желание, слитые воедино. Это была боль, острая, ежедневная, сводящая с ума, потому что Том знал – с мучительной, невыносимой ясностью – что объект его страсти никогда, ни при каких обстоятельствах, не ответит ему взаимностью. Ни сейчас, ни завтра, ни через десять лет. Эта любовь была огнем, который давал ему силы жить, наполнял его существование смыслом – и одновременно сжигал его изнутри, превращая душу в пепел. Это была его святыня и его проклятие, его алтарь и его бездонная пропасть отчаяния. Потому что объектом его всепоглощающей страсти, девушкой его единственной мечты – была она. Ванесса.
Эту тайну, темную и тяжелую, Том хранил в самой глубине своей истерзанной души. Ни единой живой душе он не смел поведать о том пламени, что сжигало его изнутри, о той пропасти, в которую он летел. Все его потаенные грезы, все запретные, мучительные образы, что преследовали его наяву и во сне, принадлежали только ей – Ванессе. Только ее имя отзывалось эхом в каждом ударе его сердца. Он не находил ответа, он бился в агонии непонимания – почему именно она? Почему эта болезненная, исступленная тяга к ней, это неутолимое вожделение не отпускало его ни на миг? Словно проклятие, это чувство впилось в его сердце, терзая его, заставляя бессильно жаждать ее снова и снова, до боли, до отчаяния.
Эта любовь была его личным адом, источником нескончаемой горечи, потерь и сожалений, погружая его в вязкую трясину депрессии. Счастье казалось ему теперь лишь призрачным, недостижимым видением, возможным только рядом с ней, только в ее присутствии, в тепле ее взгляда. Весь остальной мир потускнел, погрузился во мрак, потерял всякий смысл без нее.
В редкие, мучительные минуты затишья от душевных бурь он позволял себе мечтать – о том невозможном дне, когда и ее сердце откликнется тем же сжигающим огнем. Он видел это как в тумане, сквозь пелену слез: их дрожащие, выстраданные признания, робкое касание рук, перерастающее в отчаянную близость их тел. Он представлял, как они идут по улицам, крепко держась за руки, пытаясь урвать у судьбы мгновения простой, человеческой нежности, как обычные, беззаботные влюбленные. Но эта картина нормальности лишь сильнее ранила его своей болезненной недостижимостью, каждый раз напоминая о бездне боли и запрета, что их разделяла, и обрекая его на новое напряженное ожидание и страдание.
И эта боль, уже невыносимая, разрасталась еще чудовищнее от осознания своей полной, удушающей изоляции. Одно лишь слово – и он навеки стал бы парией, изгоем, заклейменным позором в глазах тех, кого знал всю жизнь. Этот страх, липкий и холодный, сковывал ему язык, запечатывал уста.
И вот эти мысли, эти жгучие, ядовитые образы и желания метались внутри, словно запертые в раскаленном котле. Они кипели, бурлили, сжигали его душу изнутри, не находя ни малейшей щели, ни единого клапана, чтобы вырваться наружу. Без выхода наружу, эта внутренняя мука лишь набирала силу, разрастаясь неудержимо, поглощая его целиком, словно злокачественная опухоль, удваиваясь с каждым днем, с каждым часом. Это была спираль отчаяния, ведущая прямиком в бездну горечи, потерь, боли, сожалений и всепоглощающей депрессии.
И если вначале это было лишь тайное, сводящее с ума вожделение, то со временем, под гнетом невысказанной боли и разъедающей ревности Ванессы к другим мужикам, ко всем, кто на нее просто смотрит, оно переродилось в нечто уродливое, в слепую, животную ярость. Тихий, сумрачный амбар стал его единственным убежищем и одновременно местом страшных прегрешений. Туда он уходил, когда чернота внутри становилась нестерпимой, и там, в полумраке, среди запахов сена и скотины, он обрушивал всю свою накопленную злобу, всю горечь и бессилие на беззащитных животных – коров, коз, любую тварь, что попадалась под руку. Он бил их кулаками, пинал ногами, вкладывая в каждый удар всю ту разрушительную силу, что не могла найти иного выхода. Ведь эта ярость питалась жгучей, мучительной ревностью к Ванессе, к ее недоступности, к каждому ее взгляду, брошенному не на него. Не имея возможности обрушить эту лавину чувств на истинный объект своей страсти и боли, он вымещал ее на невинных созданиях, превращая свою любовь в источник страдания не только для себя, но и для всего живого вокруг, лишь усугубляя собственное падение в пучину отчаяния и вины.
В этот мрачный период, когда внутренняя тьма сгустилась до предела, а невысказЖанеттая боль и ревность превратились в ядовитый гной, разъедающий его изнутри, мысли Тома приняли еще более чудовищный, кошмарный оборот. Ярость, не находящая выхода в слепых избиениях животных, искала новую, более значимую цель. И этой целью стал его собственный отец, Иоан.
Теперь в его воспаленном сознании рождались жуткие, до тошноты детальные картины мести. Ревность отца к Ванессе была настолько сильна, что он не просто желал отцу смерти – он жаждал его мучительного, унизительного конца. Том представлял, как зажимает отца, как берет в руки тупой, ржавый нож – именно тупой, чтобы продлить агонию, – и медленно, с садистским наслаждением, вспарывает ему живот. Он видел, как погружает свои руки в теплую, пульсирующую плоть, как вынимает один за другим скользкие, дымящиеся на холоде органы, раскладывая их вокруг. Но даже в этой кровавой фантазии была чудовищная, изощренная логика: Иоан должен был выжить. Он должен был оставаться в сознании до самого конца пытки, захлебываясь собственной кровью и болью, но видя и понимая все. Ибо целью этого кошмара было не просто убийство. Том хотел, чтобы отец, в последние мгновения своего униженного существования, осознал полный и окончательный проигрыш. Чтобы перед тем, как холодная, сырая земля начнет засыпать его еще живое, истерзанное тело, Иоан понял: битва за Ванессу проиграна им бесповоротно. Чтобы последнее, что он услышит или почувствует, была неоспоримая истина Тома: «Теперь она моя. Ванесса – моя». Эта мысль, эта фантазия о полном триумфе над соперником через предельную жестокость, стала для Тома еще одним отчаянным, извращенным способом справиться с невыносимой горечью потери, боли, сожалений и той удушающей депрессией, что стала его вечной спутницей. Это был крик его истерзанной души, готовой на самое страшное ради обладания тем, что считал своим по праву любви.
И вот сейчас, в этот самый день, день его собственного рождения, который по всем законам должен был бы нести свет, пусть даже мимолетный, душу Тома затопило странное ликование. Радость? Нет, слово слишком блеклое, слишком чистое для того мрачного удовлетворения, что разливалось по его венам густым, пьянящим теплом. Он был рад так, как, кажется, не был рад никогда в своей истерзанной жизни, и причина этой радости была столь же темна, сколь и его тайные желания. Иоана вот уже два года – два долгих, тягучих года – его не было рядом. Два года, как его тяжелое присутствие не отравляло воздух в доме, не бросало гнетущую тень на каждый их день. Но не само физическое отсутствие отца было источником этого зловещего торжества. Главное, сокровенное, то, что заставляло сердце Тома биться чаще в предвкушении невозможного – Иоан больше не прикасался к Ванессе. Два года он не делил с ней постель, не осквернял ее своим членом. Два года он не занимался с ней сексом. Осознание того, что отец больше не владел Ванессой физически, было для Тома подобно глотку кислорода после долгого удушья под водой собственной горечи, потерь и боли. Это была его тихая, выстрадЖанеттая победа в той невидимой войне, что он вел. И пусть мрак депрессии никуда не делся, пусть сожаления продолжали терзать его, сегодня, в день своего рождения, он упивался этим черным триумфом – соперник устранен, и путь к Ванессе, казался чуточку ближе, реальнее, пусть и все еще утопая в боли.
«Знаете, порой мы становимся архитекторами своих собственных, потаенных вселенных, возводя их кирпичик за кирпичиком в лабиринтах нашего сознания. Это убежища, где каждый закат окрашен в цвета наших сокровенных желаний, где воздух пропитан покоем, а счастье – не мимолетный гость, а постоянный житель. Мир, скроенный по нашим собственным лекалам, идеальный в своей предсказуемости, где нет места боли, нет тени сомнения, нет безжалостных ударов судьбы. Там ты – властелин, творец, вечно пребывающий в блаженной гармонии, не обремененный грузом терзающих проблем. Но в этом кроется западня, коварная и соблазнительная. Мы совершаем роковую ошибку, когда хрупкие стены этого вымышленного рая становятся нам милее и реальнее самой жизни. Когда часы, проведенные там, в тишине иллюзорных садов, начинают затмевать мгновения, отпущенные нам в этом, настоящем мире. И я не стану здесь, подобно строгому ментору, читать вам нотации, твердить избитые истины о необходимости "возвращаться в реальность". Почему? Да потому что я сам блуждал в подобном самодельном эдеме долгих, мучительных пять лет – с тех пор, как мне исполнилось шестнадцать, и до самого порога взрослой жизни в двадцать один. И да, положа руку на сердце, там, в том сияющем мареве, было несравненно уютнее, безопаснее, чем в этой действительности, что так часто кажется прогнившей до основания, полной горечи, потерь, боли и сожалений. Но это была лишь иллюзия. Прекрасный, манящий призрак, сотканный из отчаяния и мечты. А за каждую иллюзию, за каждый миг украденного у реальности покоя, неумолимо приходит расплата. Тенью следует цена. И за то, что я когда-то прятал голову в песок этих фантазий, спасаясь от проблем, которые – теперь я понимаю – мой юный, раненый разум просто не был способен тогда осознать и принять, я плачу до сих пор. Я все еще зализываю те глубокие раны, что когда-то и заставили меня бежать в этот иллюзорный мир. И по сей день я вынужден разгребать обломки и устранять тяжелые последствия, оставленные теми самыми спасительными, но такими разрушительными иллюзиями. Путь к исцелению долог, и эхо прошлого не смолкает».
Билл подошел к столу и осторожно водрузил на него торт. На восемнадцати свечах, воткнутых в шоколадную глазурь, тут же заплясали неровные огоньки – в гостиной гулял сквозняк из приоткрытого окна. Они мерцали и колебались, словно крошечные беспокойные духи.
Стол был накрыт, конечно, не по-королевски, но для их скромного быта – вызывающе богато. Несколько видов салатов красовались в тяжелых хрустальных вазах – Ванесса украла их в городском универмаге специально к дню рождения сыновей. Ей потребовалось 12 раз совершать рейды в магазин, чтобы натаскать продуктов на большой стол. ФаршировЖанеттая щука с кружочками лимона занимала почетное центральное место, окруженная тарелками с аккуратно нарезанными фруктами – яблоками, грушами, виноградом.
Ванесса явно постаралась, располагая все с тщательной продуманностью, добиваясь гармонии форм и цветов. Она словно создавала не праздничный ужин, а живописный натюрморт, которым могла бы гордиться. Когда она позвала братьев, закончивших возиться во дворе, Том и Билл на мгновение замерли в дверях, молча разглядывая это неожиданное великолепие.
Ванесса увидела их реакцию, и тень удовлетворения скользнула по ее красивому лицу. Ей было приятно, что парни оценили ее старания. И ни капли совести она не испытывала от того, что почти все на этом столе было украдено. Оправдание всегда было наготове: «У нас ведь совсем нет лишних денег, мальчики». Но глубоко внутри, там, куда она редко заглядывала, шевелилась другая, более честная причина – ей это нравилось. Острый, пьянящий кайф от того, что она получает что-то даром, особенно когда это удавалось провернуть благодаря мужчинам, теряющим голову от ее красоты. Это было маленькое, но сладкое подтверждение ее власти над миром.
Билл сел напротив брата, на другой конец длинного стола, и тут же незаметно бросил под стол Семи кусок запеченного куриного бедрышка – уже пятый за этот вечер. Пес мгновенно проглотил угощение и, тяжело дыша, высунул розовый язык, преданно глядя на хозяина в немом ожидании добавки. К сожалению для Семи, это был весь его арсенал по выпрашиванию еды.
– Ванесса, ты истинная волшебница! Какой стол… просто королевский пир, – с искренней благодарностью в голосе произнес Том, щедро наполняя тарелку ароматным мясным салатом. Его юношеское лицо на мгновение осветилось удовольствием.
– Пожалуй, ты прав, – с легким, почти девичьим смущением отозвалась Ванесса. Тепло разлилось в груди от его слов, хотя она и знала себе цену как хозяйка. Ей было бесконечно дорого слышать это от Билла, особенно сегодня. – Это ведь ваш последний вечер семнадцатилетних. Всего час – и вы перешагнете порог взрослой жизни… День, отмеченный такой чертой, нельзя не встретить по-царски.
– А сейчас мы, по-твоему, кто? Младенцы? – с набитым ртом, едва ворочая языком, пробормотал Том, активно работая челюстями над салатом. В его тоне слышалась привычная мальчишеская бравада, но что-то еще пряталось глубже.
– Ах, Томми… – В голосе Ванессы прозвучала нежность, окрашенная тенью неизбывной печали, которую она так старалась скрыть за улыбкой. – Для меня вы навсегда останетесь шалопаями. Неважно, сколько свечей будет на вашем торте, неважно, сколько морщин ляжет у ваших глаз.
– Не находишь, что это звучит… немного нелепо? – Билл залпом осушил свою рюмку с коньяком, янтарная жидкость обожгла горло, и в голосе его смешались вызов и затаенная боль. Он поставил пустую рюмку на скатерть чуть резче, чем следовало. – Что же, и в сорок лет мы для тебя так и останемся… несмышлеными мелкими? Маленькими и беззащитными?
Ванесса медленно перевела взгляд на Билла. Ее губ коснулась тень улыбки – печальной, полной бесконечной, щемящей любви и, возможно, горького предчувствия грядущих потерь.
– Да, мой хулиган. – Ее голос был тих, но тверд. – Именно такими. Всегда.
Ванессе было тридцать восемь, но она сохранила ту почти порочную, пьянящую свежесть юности, что заставляла кровь стынуть в жилах. Время словно боялось коснуться ее, отступило, оставив ее тело вызывающе молодым – двадцать три, не больше, и то была бы щедрая оценка. А сегодня, под тонким слоем макияжа, скрывавшим любые намеки на зрелость, она казалась почти девчонкой, опасной иллюзией ровесницы для парней.
И пусть лишь Том был поглощен целиком этой темной, обжигающей агонией любви к Ванессе, Билл тоже не был монахом. В его голове то и дело вспыхивали жаркие, непристойные образы: не просто "круто переспать", нет – его тело отзывалось низменным, животным желанием сорвать с нее одежду, узнать жар ее кожи под пальцами, подчинить эту ускользающую красоту хотя бы на одну ночь.
Когда Ванесса сегодня накрывала на стол, двигаясь по комнате, воздух стал густым, почти вязким от напряжения. Черное платье, дерзко короткое, впивалось в каждый изгиб ее тела, словно вторая кожа. Оно открывало бесконечные ноги, обтянутые тончайшим капроном колготок, где у самого бедра трепетали крошечные бабочки – эфемерный узор на вратах соблазна. И Билл, и Том следили за ней не отрываясь, впиваясь взглядами так, словно могли прожечь ткань платья. Они пожирали ее глазами, как хищники, застывшие перед прыжком. Каждый ее шаг, каждое ленивое, гипнотическое покачивание бедер было безмолвным приглашением, ритмом, от которого перехватывало дыхание и болезненно твердело в паху. Оторваться было невозможно – это было бы равносильно тому, чтобы вырвать себе глаза, отказаться дышать. Они были пленниками ее движений, ее тела, ее сводящей с ума привлекательности.
Как же они ее хотели… Билл, с его прямолинейной похотью, уже мысленно раздел ее догола. В его голове это черное платье испарилось, тонкие колготки с этими дразнящими бабочками растаяли, и вот она – обнаженная, горячая, ее кожа словно светится, маня прикоснуться, сжать, почувствовать упругость под пальцами. Он представлял ее грудь, бедра, влажное тепло между ног – чистое, животное желание обладать этим телом прямо здесь и сейчас.
А Том… Том был дальше, глубже, его пожирала не просто похоть, а исступленная, мучительная страсть. Он не просто видел ее голой, он чувствовал ее под собой, над собой, вокруг себя. Его фантазии были целым вихрем сплетенных тел, стонов, рваного дыхания. Он брал ее снова и снова, в каждой позе, которую только мог измыслить его воспаленный мозг, на этом столе, на полу, у стены – везде, до полного изнеможения, до сладкой боли, до потери сознания. Он хотел не просто трахнуть ее, он хотел впитать ее в себя, раствориться в ней, пометить как свою.
И эти два идиота думали, она не видит? Наивные щенки! Они пожирали ее взглядами, такими голодными, такими откровенными, что воздух вокруг нее, казалось, плавился. Ванесса знала! Она чувствовала их похоть каждой клеточкой своей кожи, как горячее дыхание на затылке. У таких, как она – красивых до дрожи, до желания укусить – есть радар сексуальности. Они ощущают каждый жадный взгляд, каждую каплю вожделения, направленную на них, словно физическое касание. Это знание было ее силой, ее тайным оружием.
А взгляд Тома… Его нельзя было спутать ни с чем. Это была не просто похоть, как у Билла. Это была гремучая смесь обожания, отчаяния и такого яростного желания, что оно почти искрило. Влюбленный взгляд – он кричит без слов, он обнажает душу. И Ванесса читала его как открытую книгу, видела всю эту бурю, бушующую в нем, и знала – знала всё до самого дна.
Но Ванесса и не думала гасить это мучительно сладкое пламя. Напротив! Она упивалась своей властью над парнями, подливая масла в огонь их невысказанной страсти. Каждую ночь, словно греховное видение, она скользила в их комнату. Тончайший шелк ее дерзко коротких пижамных шортиков почти ничего не скрывал, бесстыдно обнажая гладкую, нежную кожу ее бедер, изгибы, которые сводили их с ума. Она видела, как они пожирают ее глазами, чувствовала жар их желания даже сквозь сонную дрему.