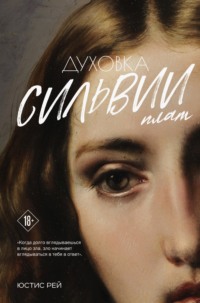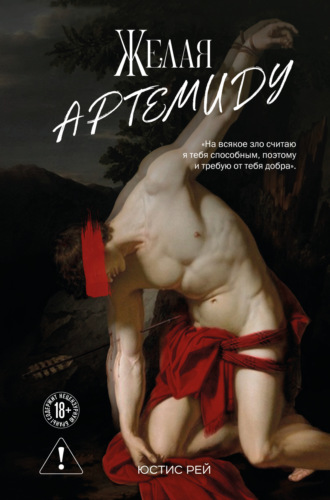
Полная версия
Желая Артемиду
– Здесь? – шепнул Крепыш.
– Да, – ответил Артур.
Только тогда взгляд Майкла выхватил веревку в руках Тома – странную веревку, сделанную из множества разных: потоньше и потолще. Они привяжут его? Повесят? Майкл снова забрыкался, но мальчишки уже не обращали внимания, кинули его на землю и собрались вокруг него плотным кольцом, как перед решающим матчем.
– Кто останется? – спросил Артур, явно полагая, что не он.
– Я, – тут же вызвался Крепыш.
– Ты всегда остаешься, – усмехнулся Брент, – как девчонка.
– Ничего не девчонка, я ответственный.
– В этом деле уж точно, – признал Том и передал ему веревку.
– Только не отпускай, – пригрозил пальцем Артур.
Майклу связали руки и потащили дальше, в самую темень чащи, светлый включил фонарик, а Том схватился за один из концов веревки, другой – остался в руках Крепыша, задачей которого было стоять на месте. Майкл мысленно выдохнул – веревка предназначалась не для него.
– Чуть не забыл, – сказал Артур и, вытащив из кармана платок, завязал Майклу глаза.
– Ну ты псих, – неодобрительно буркнул Том.
Артур сильнее впился в руку Майкла, перед глазами которого мало что изменилось – лес будто соткали из черных нитей. Даже с фонариком мальчикам приходилось ступать почти наугад. Напряженное молчание вспарывали живые звуки леса: трескающиеся под ногами ветки, шорох и гул, раздававшийся неподалеку. Майкла било дрожью от холода и ужаса неизвестности.
– Это мертвецы, – загробным голосом зашептал Артур, – они вылезли из склепа и теперь рыскают по чаще в поисках свежей крови.
– Да нет никаких мертвецов, – буднично отозвался Том.
– Вот об этом наш новый друг нам завтра и расскажет, – заключил Артур.
– Или не завтра, – хохотнул Брент.
– Да, завтра мы его точно не увидим, – подтвердил светлый. – Мой брат говорил, что когда они испытывали одного новичка, лет десять назад, то тот еще три дня бродил по лесу, прежде чем его нашли.
– Да-да, Альберт, все знают, что ты потомственный лидсхолловец, – возмутился Артур, – не обязательно так часто об этом напоминать.
– Просто сказал.
Их разговор едва добирался до испуганных ушей Майкла, острые ветки и иголки кололи через носки, одна из них впилась в правую пятку.
Вдруг мальчики притихли, словно разом приняли обет молчания. Прошла целая вечность в нехорошей тишине, прежде чем раздался голос Брента:
– Долго еще?
– Пока не закончится веревка, – объявил Том.
– Ты что, боишься? – спросил Артур.
– Я же не Крепыш.
– Тогда не задавай глупых вопросов.
Позади плыл шепоток и треск веток.
– Слышали? – шепнул Альберт.
– Это белки, – ответил Том.
– Или мертвецы, – зловеще произнес Артур.
Шорох и треск веток приближались, накатывали тревожной волной. Майкл напрягся и почувствовал, как насторожился Брент, сильнее впившись в его плечо.
– Долго там еще? – не выдержал он.
– Футов пятьдесят, – ответил Том.
Звуки сзади неумолимо надвигались на них. Майкл не сообразил, кто или что их издавало, шорох превратился в рычание. Все остановились и прислушались. Том, державший конец веревки, учащенно задышал, видимо, полагая, что его, идущего в арьергарде, утащат первым.
Артур ослабил хватку и повернулся на звук.
– Эй! – крикнул он. – Кто бы ты ни был, выходи и покажись или прекращай спектакль.
Рык утих, и они отправились дальше. Несколько минут прошло в сковывающей тишине, которая напрягала даже Артура – Майкл ощущал это по тому, как невольно расслаблялась и сжималась рука, обхватившая его плечо.
Внезапно, нарушив напускное спокойствие, с дерева упала толстая ветка, прямо за спинами Майкла, Артура и Брента.
– Куда? Куда пошел?
Крики, гул, хаос – полнейшая растерянность и первобытный ужас вспыхнули на мрачной карте леса. В манере побежденного военачальника Артур с остервенением приказывал Тому остановиться, но тот в испуге уносил ноги, а вместе с ними и веревку – их единственный ориентир. Толкнув Майкла на землю, мальчишки бежали прочь, выцветший Альберт, неразборчиво мыча и кряхтя, увязался за ними.
Майкл, выплюнув тряпку изо рта, отплевывался, чтобы избавиться от привкуса плесени и пыли, после хотел схватиться за узел на затылке, но не дотянулся. Не в силах вернуть зрение, он пробежал несколько футов и спрятался за стволом дерева, хватаясь за звук – ниточку, связывающую его с реальностью. Рык стих, но тишь все еще разрезал треск. Сердце беспокойно колотилось в горле. В голове всплывали самые глупые, впрочем, теперь не такие уж неправдоподобные сцены из фильмов ужасов, в которых его навеки утаскивает в темноту чащи некий монстр; в которых из-за стволов появляется человек с топором; в которых над лесом замирает неопознанный объект и затягивает его, освещая ярким белесым светом.
Шаги размеренно приближались, но не дикие – аккуратные, вдумчивые, человеческие. В Майкла прилетела то ли ветка, то ли сосновая шишка, и он вздрогнул и выставил руки вперед в тщетной попытке защититься, но, как и обещал себе, не закричал, стоически удерживая страх внутри – этому его невольно научил отец.
Шаги прошлись вокруг него, изучая, а потом отдалились.
– Идиоты, – сказал кто-то надменным, почти скучающим тоном.
По голосу Майкл понял, что он принадлежал его ровеснику.
– Я не причиню тебе вреда, – продолжил голос уже дружелюбнее, но все равно точно держал тайну за пазухой, и добавил: – Пока что.
Слова незнакомца откалывали лед от образовавшейся в нем льдины, превращая ее в крошево.
– Почему ты не убежал?
– Это непросто с завязанными глазами.
– И со связанными руками.
Говоривший прекрасно видел беспомощное состояние Майкла, но не спешил помочь, и это порождало в нем яростную волну негодования. Вдруг дыхание оказалось ближе – Майкл замер – его руки были свободны. Развязать платок не удалось, он с трудом стянул его, и тот повис на шее – глаза все равно ничего не видели, будто Артур и его прихвостни унесли с собой не только его гордость, но и зрение.
Призрак молча протянул ему что-то, Майкл пощупал холодную вещицу – складной нож.
– Зачем он мне?
– Ты же не хочешь носить на шее удавку.
Майкл долго возился продрогшими руками с ножом, прежде чем открыл – у него никогда не было ничего подобного, – залился краской, но, к счастью, во тьме ночи лицезреть его позор никто не мог. Когда нож поддался, он разрезал платок и, как паука, в омерзении откинул подальше.
Он не видел лица своего спасителя, но чувствовал, что тот с неослабевающим упорством следит за ним.
– Почему ты здесь? – спросил Майкл.
– А ты?
Майкл застыл в растерянности.
– В Англии, – дополнил голос.
– Это все из-за моего отца.
– Американцы?
– Переехали пять лет назад.
– Но ты все так же плохо говоришь…
– В Америке тоже говорят на английском.
– Ты ошибаешься, – ответил голос, а потом продолжил: – У меня было предчувствие, – многозначительно произнес он. Майкл, как ни старался, терял нить разговора. – У меня свободное время.
Это признание ввело его в еще большее замешательство, и он закрыл рот, прикусив губу, чтобы не сболтнуть лишнего. Зубы у него предательски стучали от холода и страха.
– Что они хотели сделать? – спросил он, подумав.
– Провести испытание.
– Испытание?
– Согласно ему ученика оставляют в лесу и проверяют, как быстро тот выберется. Из-за этой невинной, на первый взгляд, шалости некоторые ученики проводили до трех дней в чаще, не имея шанса выбраться.
– Поэтому у них была веревка… – шепнул Майкл сам себе. – Но зачем? За это могут исключить.
– Это традиция, старая и глупая, как и многие традиции. Обычно такое проворачивают потомственные лидсхолловцы, наслушавшись баек от старших братьев.
– Ты проходил испытание?
– Да, но не это.
– Тоже бродил по лесу, пока тебя не нашли?
– Нет.
Майкл презрительно поджал губы – больше, чем тиранов, он не любил только хвастунов.
– Почему у тебя нет друзей? – спросил голос.
– Что?
– Ты всегда держишься особняком. Почему, Майкл?
Кровь схлынула в конечности, пульсировала в кончиках пальцев.
– Ты знаешь мое имя?
– Я многое знаю.
– И как выбраться отсюда?
– Да. Но ты должен ответить на вопрос.
– Я… здесь нет никого интересного.
Удовлетворившись ответом, он начал собирать ветки и склонился над ними, сложив особым образом.
– Нужно тебя согреть, – сказал он, поддав в голос непривычной, такой чуждой для той ночи теплоты.
Майкл, уже не чувствующий пальцев на ногах, проникся такой щемящей благодарностью, что пришлось сморгнуть влагу в глазах.
– Ты призрак? – Вопрос вырвался сам собой, и он мысленно пнул себя за глупость, едва не проглотив язык от стыда.
– Нет, пока нет.
Он развел костер ловко и умело, будто родился в лесу, – мягкое оранжевое мерцание позволило разглядеть его, и Майкла ударило вспышкой осознания: он впервые видел его так близко, впервые остался с ним наедине, и это было гораздо страшнее и страннее, чем все, что происходило до этого, словно мальчик – герой, покинувший картину.
– Подбирайся, – не сказал, но приказал он, и Майкл подполз к живительному огню, но не слишком близко, выставляя вперед ладони.
– Тебе не страшно? – спросил он, разрезав напряженную тишину.
Была в этом какая-то дьявольщина, что-то не на шутку леденящее душу, даже пуще шорохов в темноте, и оттого, несмотря на тепло, он дрожал.
– Здесь?
– Одному. Ночью. В лесу.
– В лесу нет ничего страшного. Страшное за его пределами, – ответил он с каким-то опасным, насмешливым лукавством.
Майкл сглотнул, сложил нож – только сейчас вспомнив, что до сих пор сжимал его в руках, – и протянул призраку.
– Оставь себе. Каждый уважающий себя человек должен иметь нож.
Майкл не спорил, хватал каждую секунду, запоминал каждый миг, чтобы потом, когда вернется в серую и скучную круговерть, перематывать воспоминание, как пленку, но все попытки разбивались о скалы удивления и трепетного благоговения перед ним.
– Так ты хочешь выйти?
Майкл кивнул. Призрак обогнул костер и присел так близко, что их лица оказались вровень, обдав Майкла ароматом хвои и мирта – он пах зимой больше, чем сама зима. Зимой с металлическими нотками… крови.
– А хочешь научиться выбираться самостоятельно?
– Они снова заставят меня проходить через это?
– Это не будет иметь значения.
Майкла сковали ледяные струи беспокойства – это было опасно, но в призраке таилась какая-то темная и вместе с тем притягательная сила, которую Майкл жаждал получить.
– Хочу.
– В таком случае добро пожаловать в Лидс-холл, – сказал мальчик и протянул руку. – Меня зовут Фредерик Лидс.
8
К прибытию Лидсов Майкл почти опустошил пачку «Мэйфэйр». Голова трещала по швам. Весь он точно состоял из пораженных клеток, какой-то недочеловек, ничего не делающий, но вечно уставший. Руки дрожали, глаза слезились от сигаретного дыма, и он плыл в нем и в песне, звучавшей на грани слышимости. Слова едва касались стен, залитых солнцем, но их смысл, отскакивая от них, ускользал в зазор под дверью («Но мне очень интересно узнать, как ты собираешься просить прощения у мертвых, когда твой нимб соскальзывает. Твой нимб соскальзывает, чтобы задушить тебя» [22]). Сердце то скакало галопом, то почти переставало биться. Все было неподвижным, тревожно-гнетущим.
К входу подъехала машина, и Майкл резко вскочил с кровати – в глазах потемнело, на миг он потерял равновесие, его повело вправо. Спрятавшись за портьерой, он боязливо выглянул в окно. Казалось, весь мир состоит из него – он будет виден, даже если превратится в песчинку, в муравья в траве. Дверца открылась – блик скользнул по начищенной поверхности, – и из машины вышла Агнес, строгая и внушительная, в классическом костюме цвета граната. Грейс выплыла из салона подобно ангелу, воздушная, молочная, прохладная, как летние сумерки.
боже как хороша
Майкл зарылся в складки портьеры, закусил ткань, тихонько завыл, исходя желчью от гнева и обиды. Неосуществимости желания.
– Ну и дел ты натворил.
Премьер-министр, изголодавшийся по вниманию, устроился на кровати, положив голову на колено Эда, и тот почесал его за ухом.
– О чем ты? – Майкл отпустил ткань.
– Твоя истерика у Лидсов. Ты выходишь из-под контроля. Пропускаешь занятия. Думаешь, родители не заметят?
– Думаю, им плевать.
Эд немного помолчал, ссутулившись от груза ответственности, возложенного на его плечи, а после, уже тише, сказал:
– Не будь так жесток, она ведь потеряла брата.
Грейс и Агнес исчезли из поля зрения, и Майкл заметался по комнате, охваченный внезапным жарким приливом.
– Я тоже потерял друга, но почему-то никто не заботится о моих чувствах.
– Мне кажется, ты растешь в обратную сторону.
Майкл подскочил к прикроватному столику, заваленному книгами, в том числе англо-латинскими словарями, схватил пачку сигарет, выудил последнюю и закурил, затянувшись до жжения в легких.
– Она знала его как никто другой, – шепнул он сам себе, нервно тряся головой. – Она знает, почему он это сделал. Я заставлю ее заговорить…
Приударю за ней, подумал он, или выбью силой. На миг он спрятал лицо в прокуренных ладонях.
– Тебя ведь не волнует, почему он это сделал, – ответил Эд – голос разума в дерганой дымке. – Ты лишь хочешь, чтобы кто-то сказал, что это не твоя вина.
– Я знаю, что это моя вина.
Эд ушел молча, потрепав Министра за ухом. По всем ощущениям нужно было вернуть его, вцепиться в брючины, сопливо разреветься и молить остаться, но что-то в напряженной спине Эда, уверенном шаге и звенящей тишине не позволило Майклу этого сделать.
Дорис принесла ужин и поставила поднос на стол, покрывшийся пылью. Когда-то Майкл подшучивал над ее акцентом и внешностью, рисуя обидные карикатуры, но со временем проникся к ней если не любовью, то уважением. Разрешал ей без спроса заходить в его комнату, сколько угодно отчитывать и квохтать – он бы не сказал ни слова поперек. Он никогда не знал, как должна вести себя настоящая мать, но почему-то представлял, что именно так. Дорис принялась прибираться и по-старчески ворчать, ругая его за беспорядок и спертый воздух. Майкл притянул ее к себе и смачно поцеловал в морщинистую щеку, отчего уставшее лицо польщенно расцвело, радостно раскраснелось. «Иди-иди, ты, несносный мальчишка», – в ее голосе не было ни капли того, что означали слова.
Он спустился в библиотеку и, миновав стеллажи с книгами, поставил поднос с едой на подоконник, распахнул окно – стрекотание в траве, блеск паутины в воздухе, – уселся рядом, умял мясо и овощи, а потом принялся за сконы со смородиной. Дорис часто пекла их, когда Кэти была совсем крошкой. Майкл хотел вернуть те чудесные дни, подсвеченные солнечной дымкой, блаженную праздность и незнание – и они вернулись, только без очарования. Вот бы остаться в них навеки. Жизнь давно раскрошилась на сотни осколков: светлое неведение младенчества, призрачная полуявь детства, мучительное осознание юности, сонно-пьяная реальность молодости – тысячи частиц, плывущие в вязком мозгу, в каждой из которых он был разным человеком.
Майкл сунул руку в тайник, устроенный в книжном шкафу, достал полупустую пачку «Мальборо» и зажигалку, прикурил, сунул сигарету между губ и вернулся к окну, но та едва не выпала изо рта, когда раскаленный, неумолимо двигающийся к закату горизонт выхватил из размытого пейзажа изящную, как ствол молодого дерева, фигуру Грейс Лидс. Увидеть ее здесь было сравни прыжку со скалы в ледяную воду, но Грейс была уверена в своем одиночестве и наконец сбросила маску невозмутимости: стояла, согнувшись пополам, одной рукой упершись в колено, а другой схватившись за живот, и выглядела так, словно вот-вот упадет в обморок, а то и вовсе замертво – бескровно-бледная, изможденная, как узница, сбежавшая из Тауэра.
– Только на дорожку не блюй, – сказал Майкл, зажав сигарету между изодранными костяшками. В его голове фраза звучала забавно, но он почувствовал себя полным придурком, когда произнес ее вслух.
Грейс резко выпрямилась и обернулась, сузив глаза. Перламутровые пуговицы блеснули на груди.
– Твоя мать сказала, что тебя нет дома.
– Всегда так делает. Боится, что я опозорю ее перед гостями. – Майкл сбил пепел и с упоением затянулся, прячась за сигаретой и деланым безразличием.
Грейс окинула его проницательным взглядом и серьезным тоном сказала:
– Полагаю, ее опасения не напрасны.
– Если хочешь сбежать, придется обогнуть дом.
– Думаешь, мне стоит сбежать?
– Моя мать может быть той еще занозой.
– Она здесь ни при чем. – На миг Грейс прикрыла глаза, словно ей было больно смотреть на мир. – Моя тюрьма всегда со мной.
От ее ног в грубых ботинках тянулись тени, и, если прищуриться, казалось, что она прикована к земле цепями, как измученное животное, что может исследовать свою клетку лишь по периметру, от одного вытоптанного угла к другому. Она молчала, и он тоже молчал, и эта минута напряженной, томительной тишины длилась вечность – сущая пытка, как и любая минута рядом с ней, но в этот раз Майкл покорился изощренному издевательству, использовав это время, чтобы вдоволь налюбоваться ею. Сигарета тлела между пальцев. Волосы Грейс пылали в ярком свете медленно увядающего солнца, несколько тонких волосков выбились из общей массы и слегка трепетали в воздухе невесомой паутинкой.
– Если ты ждешь извинений, то их не будет. – Вызывающе резким движением он бросил окурок в траву. Спор с Грейс Лидс – это единственный способ взаимодействия с ней, исключающий вину. Перед ним.
– У вас красивый сад, – сказала Грейс, судя по всему, ни капли не задетая его словами.
– Ты была тут раньше?
– Нет. Разве что во сне…
Майклу было не по силам разгадать ее, как он ни пытался, как ни смотрел. Понять ее мысли – все равно что проникнуть в голову фарфоровой куклы.
– Я знаю, о чем ты думаешь, – сказала Грейс, и Майкл соскользнул с края, упав в обрыв постыдных чувств: он думал лишь о выемке между ее ключицами и о том, как запускает в нее язык. – Мы не слишком хорошо начали, но это не значит, что так и должно продолжаться.
Его лицо тронула тень смущенной, но облегченной улыбки.
– Мы не будем друзьями, – почти благосклонно произнес он.
– Но и враждовать нам ни к чему.
Вражда. Майкл хотел бы враждовать с Грейс, ненавидеть ее, но трудно испытывать ненависть к тому, кого так безрассудно желаешь.
Не дождавшись ответа, Грейс засобиралась в дом.
– Что с тобой? – спросил он вслед в безотчетном стремлении удержать ее, почти не пытаясь бороться со своей симпатией.
Она обернулась. Сердце у него тягостно замерло и упало.
– В последнее время я неважно себя чувствую.
– Из-за него? – Он попытался придать голосу невозмутимости, но вышло скверно, его притязания на притворство были куда больше его способностей.
Грейс наклонила голову набок, с пристальностью непонятного характера изучая его.
– Игра в безразличие – мучительная пытка, Майкл. Не стоит так напрягаться.
Она сделала это впервые – назвала его по имени, и на миг он потерялся, военные укрепления дали трещину.
– Почему он умер? – уже своим голосом спросил он.
– Он убил себя, ты ведь знаешь.
– Я не спросил как – я спросил почему. Он сделал это из‐за Мэри? Он любил ее?
На лбу у Грейс вздулась жилка, и Майклу до боли захотелось прикоснуться к ней губами, так сильно, что он поджал их, чтобы не признаться в этом вслух.
– Игра в безразличие – мучительная пытка, Грейс. Не стоит так напрягаться.
Ее губы изогнулись в едва заметной улыбке.
– Что ж, полагаю, наши разногласия остались в прошлом. Можешь присоединиться к чаепитию. К десерту подадут бисквит.
– Ненавижу бисквит.
– И ореховые трюфели.
– Терпеть не могу. – Он ощутил, как краска предательски прилила к щекам.
– У тебя аллергия на орехи?
– Нет. С чего ты взяла?
– Еще не родился тот человек, который не любит трюфели, – сказала она и вернулась в дом.
Любопытство Майкла пересилило гордыню. Повержен. Он отправился в гостиную, где вел себя, подобно Премьер-министру, как послушный мальчик: тихо пил чай под милое щебетание матери.
Вина, обвившаяся скользкой змеей вокруг него, стянула кольца плотнее.
Грибы
После занятий Майкл нашел тихий уголок в одном из читальных залов, залитом зимним свечением, забрался на подоконник эркерного окна и сделал набросок Тронного зала Артура – главного корпуса Лидс-холла с резными окнами, напоминавшими скелет, и остроконечными крышами, проткнувшими серость небосвода. Дальше наброска дело не пошло – скука и сонливость навалились на него плотной волной. Чернее черного.
Рядом с Майклом приземлился пакет с обедом – он дернулся, словно при падении, – и на подоконнике устроился Фредерик Лидс, окруженный каким-то колдовским, трепетным мерцанием. Майкл закрыл альбом и прижал к груди – до сих пор никому не показывал рисунки, – но когда Фред молча протянул руку, он, словно загипнотизированный мелодией редкого инструмента, передал ему альбом. Белоснежные листы подсветили точеное лицо. Неморгающие проницательные глаза изучили рисунки со спокойствием и внимательностью опытного коллекционера. Вернув альбом, Фред спросил:
– Почему не ходишь на уроки мистера Хайда?
Майкл пожал плечами, ядовитый плющ нестерпимого стыда и страха, что давно сковал его сердце, затянулся сильнее.
– Plus in metuendo mali est, quam in ipso illo, quod timetur [23].
– Я не знаю латынь.
– Кто владеет латынью, тот владеет миром, а я лишь говорю, что ты должен попробовать.
Фред оставил пакет с обедом – Майкл был тронут его бескорыстной заботой – и вышел. Он обладал феноменальной способностью выражать нечто очень существенное и важное короткими фразами, убеждая тем самым в нерушимости своей правоты. В тот день Майкл больше не рисовал, душевное равновесие пошатнулось и бесследно исчезло. «Ты должен попробовать». Не «тебе стоит» или «может быть, попробуешь» – Фред не признавал полумер, и это была не дружеская просьба и не праздное предположение – это был приказ.
На следующий день он впервые переступил порог студии мистера Хайда, находившейся в Зале Фредерика – корпусе искусств, что расцвечивало все происходящее в еще более волнующие тона. Писали акварелью, и Майкл попятился к выходу, готовый бросить эту затею, но учитель настоял, усадив его за мольберт.
Когда занятие закончилось и в зале никого не осталось, Хайд оценивающе оглядел результат.
– Сколько? – спросил учитель.
– Что – сколько? – С кисточки капнуло на пол.
– Сколько рисуешь?
– Полжизни, сэр.
– А акварелью?
– Несколько раз пробовал.
Глаза Хайда перестали моргать за линзами очков в проволочной оправе, а залысины на голове, казалось, пошли еще дальше.
– Четыре раза в неделю, – отрезал он. – Тебе придется заниматься как минимум четыре раза в неделю, если хочешь нагнать программу.
– Все так плохо?
Хайд потрусил к выходу, но остановился в проеме.
– Обычно я назначаю пять.
С тех пор Майкл ходил в студию по будням, кроме среды, это были его любимые занятия. И все благодаря ему. Фредерик Лидс, подобно джинну, всегда появлялся, когда Майкл в нем нуждался, и говорил то, что ему нужно услышать.
– Это гений, – сказал Фред.
– Что?
– Не джинн, а гений. Он был у каждого римлянина: дух, что хранит жизнь человека и делит с ним все радости и горести.
Так оно и было. Фред стал его гением. Майкл невольно воспринимал себя персонажем Мэри Шелли, монстром, ненужным и нелюдимым, которого час за часом, день за днем обращал в человеческую особь Фредерик Лидс. Весь мир превратился в полотно с воздушной перспективой – все за спиной Фредерика размылось и утратило четкость, прежнюю контрастность цветов.
Безоговорочное доверие привело Майкла в чащу ночью, после отбоя он выбирался из комнаты, и ни один мальчишка не смел и пикнуть об этих вылазках. В глубине души он не понимал, зачем совершать их с наступлением темноты, однако привычки спорить Фред в нем не выработал, и Майкл покорно шел за другом.
Нужно уметь не только видеть, но и слышать лес, говорил Фред, и его личность приводила Майкла в такой благоговейный трепет, что он не осмеливался признаться в том, что видит в ночной чаще так же плохо, как и слышит. Вакуум. Беспросветная темень. Тишь, разрезаемая случайным треском.
Спустя три месяца, когда полосы лугов за Лакейской Филиппа и Палатой Альберта залило солнечным светом, а молодые и не очень деревца обросли зеленью, они впервые отправились в чащу днем, в прекрасный и дикий, но чарующий своей первобытной спокойной красотой мир. Майкл наконец увидел широкие стволы дубов и вязов, жесткую кору которых, словно вторая кожа, покрывал мох; пугливых серо-рыжих белок, скрытных землероек и слепых кротов. В самой глубине леса они наблюдали за косулей, что вздрагивала, улавливая малейшее движение. Фред рассказывал, что в чаще обитают лисы, но встретить их не удалось.