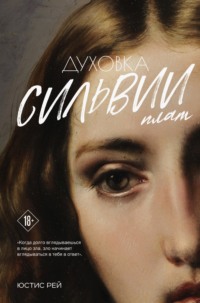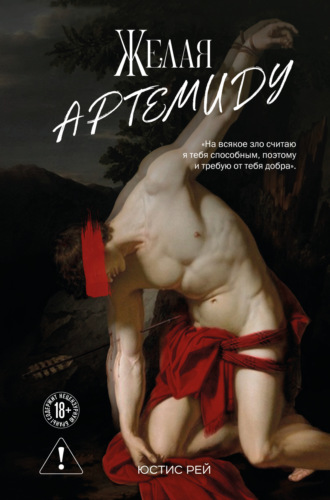
Полная версия
Желая Артемиду
– Накажи меня.
В доказательство покорности, которой редко отличался, он схватил кошку-девятихвостку с узлами на концах и положил перед отцом. Джейсон всегда хранил ее на барном шкафу; англичане знают толк в наказаниях, говорил он, переплетая хвосты кошки между пальцами – его любимый питомец, способный превратить кожу в лоскуты. Ранее кошка использовалась в английской армии и на флоте, и получить наказание солдат или матрос мог за установленные регламентом проступки: плохо вымытая палуба, увлечение азартными играми, пьянство, воровство, бунт – за все, что подрывало порядок, но закрепленных правил в доме Парсонсов не существовало, число ударов определялось Джейсоном, который без разъяснений и жалости подгонял под безнравственные поступки все, что было угодно его душе.
Отец сложил газету, пальцы двигались преступно медленно, но лицо пылало, горело нетерпением в предвкушении триумфа – он уже начал пытку и продолжал ее, стягивая с себя пиджак, закатывая рукава рубашки.
В индуизме пунарджанма – круговорот рождения и смерти – естественный ход природы. Майкл не верил в христианского бога и был склонен считать, что именно индусы приблизились к разгадке всего существования – он так и видел, как его отец век за веком перерождался из одного монстра в другого: из рабовладельца с револьвером на юге Джорджии в надзирателя с пистолетом в Аушвице, а из него – в афганского моджахеда с автоматом. Может быть, поэтому он и был так зол, вынужденный на этот раз довольствоваться кнутом.
Майкл нагнулся поперек стола, отец провел хвостами по его спине и не преминул добавить:
– Брюки.
Джейсон всегда бил только по голой коже, но Майкл каждый раз наивно полагал, что тот забудет. Когда это случилось впервые, Майкл лежал распластанным на столе со связанными руками, слезы собирались на столешницу в лужицу, но теперь он никогда не плакал.
Первый удар отозвался нестерпимой болью, но Джейсону не удалось вырвать из Майкла ни звука. Он держался, убеждал себя, что должен быть мужчиной, каким, несмотря на возраст, всегда был его брат. Чем сильнее сопротивляешься, тем сильнее изобьют – это он уяснил рано и поэтому обмякал на столе подобно мертвому телу: его это все ни капли не заботит. Но переборщить с безразличием нельзя – нужно найти золотую середину: не показывать, что тебе слишком больно, но и не притворяться, что не больно совсем, иначе отец бил жестче, выпуская наружу всех своих демонов. Удары сочно отскакивали от стен, разрезая тишину кабинета. Физическая боль и животная жестокость раздирали Майкла в клочья. Стол жалобно скрипел под ним.
Пятый. Шестой. Седьмой…
Он всегда считал про себя, и если он не кричал, то обычно отец ограничивался десятью – сжимая зубы, он отчаянно ждал десятого, самого болезненного удара, после которого бесформенной массой стекал на пол, с облегчением провожая удаляющуюся спину отца.
В тот день Джейсон не остановился. За десятым последовал одиннадцатый. Майкла знобило и трясло, лоб покрылся влажной пленкой, крик застрял в горле, и он открыл рот, как рыба, выброшенная на берег, в попытке вобрать воздух в легкие. Кожа горела. Он горел в этом пламени.
Пятнадцатый, шестнадцатый, семнадцатый…
Майкл научился лежать, дышать и замирать так, чтобы эффективнее справляться с разными видами боли: ремень, хлыст, даже трость, – но когда дело доходило до кошки, ничего не помогало. Потеряв счет времени и ударам, он поднял взгляд к потолку и представил себя рисунком на обоях – черточкой, которую никто не замечал, но которая составляла часть большого целого. Французы называют это пуантилизмом – живопись точками. Вблизи они так и останутся точками, но, если чуть отойти, сольются в картину. Он – тоже точка. Разрушится ли единство полотна после его исчезновения?
– Ты можешь все прекратить, – предупредил Джейсон, его дыхание сбилось, и Майкл с силой зажмурился, испугавшись того, чего подспудно боялся с тех пор, как ему исполнилось восемь. – Хочешь прекратить?
Он не сразу понял вопрос – слова булькали, точно в воде, – ожидал подвоха. Всегда был подвох.
– Хочешь прекратить? – Отец склонился над ним и, схватив за волосы, поднял его голову над столом.
– Хочу, – шепнул Майкл.
– И обещаешь быть хорошим мальчиком?
– Обещаю.
– Не позорить меня?
– Обещаю.
– Не слышу, – потянул он сильнее.
– Обещаю!
– В следующем семестре ты поедешь в Лидс-холл.
– Поеду.
– Вот так. – Джейсон отпустил его, и Майкл с силой ударился подбородком о дерево, прикусив язык. Металлический вкус разлился во рту. Голова шла кругом.
Плеть глухо приземлилась на столешницу прямо перед лицом Майкла, как орудие убийства перед бездыханным телом.
– Тебе нужно чаще напоминать, кто здесь главный, а не то ты забываешься.
Отец как ни в чем не бывало пригладил волосы, раскатал рукава рубашки и вернулся на прежнее место во главе стола. Майкл привстал, поднял брюки, несмотря на боль, натянул на себя и, с трудом развернувшись, поковылял к двери. Лучше испытывать боль, чем унижение – он уже давно казался себе слишком взрослым, чтобы стоять полуголым перед отцом.
– Позови Кэти, – приказал отец вслед, разрезав Майкла надвое – рука замерла на ручке.
– Ты же сказал…
– Я не говорил, что ты можешь уменьшить количество ударов, но можешь выбрать, с кем их разделить.
Превозмогая боль, Майкл двинулся обратно к столу, затуманенным взглядом выловив блеск бутылок за стеклом барного шкафа, и на краткий миг представил, как хватает одну из них, разбивает о стол и перерезает отцу горло – эта мысль так захватила его, так живо заиграла в воображении, что боль почти отступила.
– Закончи со мной, – сказал он и, спустив штаны, снова лег поперек стола.
7
Утро было немым и застывшим. Солнце ярким шаром медленно поднималось из-за кроны деревьев – сплошная темно-зеленая извилистая линия, словно ночное море. Майкл лежал на сбитых пропотевших простынях, раскинув руки крестом: возьмите Его вы и распните; ибо я не нахожу в Нем вины [20]. Едва дышал – в носу запеклась кровь.
Подняв себя с кровати, дрожа и моргая воспаленными глазами, он принялся за нервный, дерганый поиск воспоминаний о Фреде. Перерыл всю комнату, перевернул ящики – встревоженный Министр гавкнул и забрался на кровать, спрятавшись в простынях, – ожесточенно порылся в шкафу, скинув все с полок. Стены сомкнулись вокруг, мир сузился до одной точки, до одного имени. Отчего так трудно отыскать материальные свидетельства их дружбы? Он без труда находил нематериальные в самом себе.
Он нашел лишь перьевую ручку, которую Фред подарил ему на шестнадцатый день рождения. Почему он не вернул ее, как сделал с остальными подарками, когда их отношения дали трещину?
забыл просто забыл
Истинная же причина, постыдно малодушная, крылась в глубине души: он оставил ручку у себя намеренно, в надежде, что без его участия она вернет все на круги своя. Бестолково вертел ее в руках, думая о том, что когда-то гладкого корпуса касались его руки, его идеальные пальцы скрипача и фехтовальщика.
Майкл выкурил несколько сигарет одну за другой, и его беспощадно сморило в душной спальне. Он проснулся с тяжелой головой, все такой же измотанный и выцветший, ближе к обеду и, неохотно умывшись, заглянул в комнату Кэти. Подобно ученому, она сидела в лучах лампы, склонив голову над мертвой бабочкой. На столе, помимо учебников, лежала открытая книга по лепидоптерологии: на полях заметки круглым почерком без наклона, загнутые страницы – почти дневник.
Плотные портьеры зашторены, точно занавес на сцене театра, где давно не проходили спектакли. Спальня Кэти производила странное впечатление: старинная мебель, винтажные украшения и приглушенные глубокие цвета превращали ее в комнату, где последние дни доживала лишенная сил женщина, которую подкосила смертельная болезнь. На прикроватном столике всегда стоял наполовину пустой стакан воды – Майкл готов был поклясться, что тот стоял там, сколько он себя помнил.
Он подошел ближе и присел на краешек стола. Бабочки всегда увлекали Кэти каким-то непостижимым образом – сильнее, чем люди. Она взяла короткую булавку и проколола грудку трупика, затем булавку с нанизанной на нее бабочкой воткнула в пенопласт. Майкл видел, как она делала это десятки, если не сотни раз, но ему вдруг стало не по себе. Он невольно дернулся, представив себя в теле этой бабочки.
– Помнишь, когда-то ты их отпускала?
– Я нашла ее мертвой.
Кэти взяла полоску бумаги, положила поперек правого переднего крыла и наколола по булавке возле краев. С левым крылом и двумя задними она проделала то же самое.
– Фред бы сказал, что теперь она похожа на Иисуса.
– У твоего Фреда были странные понятия о мире.
– Чем он очень гордился.
– Мы же атеисты, – улыбнулась она уголком губ.
Они никогда не говорили о религии за пределами собственных спален, зная, с каким неистовым рвением Джейсон Парсонс пытался вписаться в консервативное высшее общество и что бы он сделал, прознав об их бессмысленном бунте.
Кэти зафиксировала брюшко и усики, а после подняла печальные глаза и обвела взглядом других бабочек, навсегда приколотых и замурованных под стеклом.
– Мама говорит, что в этом году я не вернусь в Лидс-холл на полный пансион. Но мне нравится в школе. Больше, чем тут.
Майкл внимательно взглянул на бабочек, которых она так трепетно собирала: здесь были мелкие и крупные, цветные и черно-белые, пятнистые и полосатые – кладбище несбывшихся надежд.
– Иногда я чувствую себя так, словно меня тоже проткнули насквозь и поместили за стекло, – отстраненно сказала она. – Без тебя совсем тоскливо.
– Я больше никуда не уйду.
Он не посмел обещать ей, что все будет хорошо, – она бы все равно не поверила.
– Что будешь делать с ней дальше? – кивнул он подбородком на приколотую бабочку, стремясь замять этот разговор, упрятать его поглубже в темный, пыльный сундук, где он хранил все беды и напасти, пифос Майкла Парсонса [21], – внутри все стягивало от чувства неумолимой лихорадочной вины.
– Оставлю на пару дней сушиться.
– И поместишь к остальным?
Она согласно промычала в ответ.
В тот день Майкл нарушил свое неписаное правило трезвости до обеда, но пагубная эйфория быстро угасла, и в нем снова закипела злоба, граничащая со смертельной усталостью.
– Классический черный чай с маслом бергамота, – послышался мамин голос из кухни. Указания предназначались для Дорис, которая работала в семье Парсонсов с тех пор, как они пересекли океан, но Кэтрин нравилось повторять одно и то же с умным видом знатной дамы – это придавало ей чувство собственной значимости. Ей доставляли какое-то немыслимое удовольствие невидимые утомительные занятия: так, она часами с упоением и дотошностью выбирала оттенки тканевых салфеток и скатертей – слоновая кость или цветочный белый? – форму для прислуги и бумагу для карточек рассадки гостей.
Майкл прошел на кухню, уселся на высокий стул у островка и словил себя на неожиданной мысли, что ничего не ел и не пил со вчерашнего дня – еду с подносов он смывал в унитаз. Но запах свежей выпечки сладко плыл по дому, и он, не противясь ему, потянулся за маффинами.
– Что касается десерта, то, конечно же, бисквиты и сконы. И обязательно ореховые трюфели…
Почти не жуя, он запихнул маффин в рот с детской жадной непосредственностью. Потом второй, третий… Голод. Неутолимый голод. Пустота внутри, что бы он в себя ни забрасывал, никак не затягивалась, в желудке все сводило и горело.
– У наф будут гофти? – поинтересовался он, когда Кэтрин, отдав все распоряжения, полоснула его сердитым взглядом. – Я приглафон? Ефли Дориф фделает йофширский пафкин, то обефаю быть паинькой.
– Йоркширский паркин – осенний десерт, тебе пора бы это запомнить. – Она вырвала у него из рук очередной маффин и вернула на тарелку к остальным. – Так же, как и запомнить, что в приличном обществе не говорят с набитым ртом. И да, у нас будут гости. И нет, ты не приглашен.
– Как это? – Майкл слизал крошки с пальцев. – Как я могу быть не приглашен? Я вообще-то все еще тут живу.
Кэтрин подошла ближе и склонилась над ним, синева глаз пылала, грозясь сжечь его на месте.
– Что с тобой, черт возьми, такое? – Ее нос презрительно дернулся.
– Проголодался.
Если не знаешь, что отвечать, лги и изворачивайся – они с радостью заглотнут наживку, какой бы глупой, наивной и невероятной та ни была. Преступное равнодушие и тупое безразличие накрыли дом Парсонсов куполом.
– Завтра на чаепитие приедут Лидсы, – продолжила Кэтрин уже не своим голосом – голосом для светских приемов и бесед с чужаками, не посвященными в то, как все устроено в их доме. – Я не хочу, чтобы ты снова все испортил.
– Признайся, тебе плевать на то, что я сказал о Фреде. Ты злишься потому, что я задел тебя.
– Ты не настолько глуп, чтобы так считать.
– Ты хочешь, чтобы я исправился, но не даешь мне и шанса это сделать.
– Я давала тебе шансы с тех пор как ты родился, всегда тебя прощала, выгораживала перед отцом, но ты обидел Грейс – это было последней каплей.
– В кои-то веки мужчина повел себя недостойно по отношению к женщине. Какой скандал. Где же это видано? Тебя-то ни один хер в этом доме никогда не унижал.
– Не выражайся.
– Прости, а что именно я сказал не так? Это задевает твои светские манеры? Я, наверное, что-то упустил – когда этот дом стал воплощением учтивости?
– Ты уже достаточно взрослый, чтобы понимать, почему я сделала такой выбор.
– Выбор? Да он уехал, и ты светишься от счастья, но он вернется, и ты снова будешь плакать в подушку и призраком бродить по дому. Ты спросила, нравится ли Кэти такой выбор? Так вот, я скажу, что по десятибалльной шкале ее одобрение, впрочем, как и мое, равно примерно минус тысяче. И пусть ты и считаешь ее ребенком, она все понимает. Ты хоть представляешь, как это отразится на ней?
– Она знает, что я хочу для вас лучшего. У меня всегда были только благие намерения…
– Тогда, надеюсь, ты знаешь, куда вымощена дорога благими намерениями.
Фредерик
Майкл ступил на припорошенную снегом дорожку и тут же забыл, что приехал на машине; казалось, за спиной закрылся портал, переместивший его в иное время – в далекое и туманное прошлое. Он сделал шаг, еще один и попал в девятнадцатый век, а может, и в более ранний – он никогда не видел ничего подобного и был уверен, что не впишется в общество учеников этой школы с ее готической роскошью, атмосферой интеллектуального расцвета, пыльной тиши и неизбывной печали. Он изучил буклеты Лидс-холла вдоль и поперек, но они не отдавали должного реальности: перед ним открылись сады и поля – голые, замерзшие, заиндевевшие, но Майкл вполне мог представить, как они выглядят в цвете – и мрачные здания в стиле перпендикулярной готики. Он стоял перед самым внушительным, солидным и впечатляющим – главным корпусом Лидс-холла, изначально построенным как мужской монастырь. Благодаря состоянию Лидсов здание поддерживалось в первозданном виде вот уже несколько столетий. Новые корпуса построили по образу и подобию главного.
Лидс-холл – светская школа-пансион, которая к концу двадцатого века стала смешанной: раньше здесь учились исключительно юноши, и, хотя этот порядок вещей канул в Лету, иные традиции соблюдались и по сей день. Все корпуса, помимо официальных названий, обросли здешними прозвищами в честь прежних хозяев, вроде Тронного зала Артура или Палаты Альберта, и так как всех Лидсов через одного нарекали Артуром, Альбертом или Филиппом, понять, кого именно так почитали, не представлялось возможным. Не только аристократизм и титулованность, но и религиозность Лидсов, а в частности нынешнего директора Филиппа, патиной въелась во все корпуса: украшениями коридорам и залам служили изображения сцен из библейских сюжетов, даже стены комнат ученикам не позволялось осквернять постерами и личными фотографиями.
Незнакомая, пугающая обстановка вынуждала Майкла наглухо закрываться до последней пуговицы, мрачное волнение никогда не покидало, перемешиваясь с какой-то тоскливой, тревожной печалью. Однако Лидс-холл не оставлял ему ни тени шанса быть потерянным – тянул из промерзшего темного подземелья прошлого в яркий лучистый мир возможного будущего. В старой школе использовали лозунг, отражающий понятный коммунистический идеал: «От каждого по способностям, каждому по потребностям», у Лидс-холла же был свой: «Крепчаем с каждым днем» – вышитый под школьным гербом, представляющим собой дуб, глубоко пустивший корни.
Впервые Майкла окружало так много людей, голосов, звуков, запахов и событий – возможности обступали его, дружески протягивая руки. Школьная круговерть подхватила его, как ветер – упавший лист, и он плыл по течению, не в силах ему противостоять. Однако прошлое и воспоминания об отце, подобно настырному, гнилому гвоздю, разъедали мозг, с наступлением сумерек жизнеутверждающее разнообразие меркло и проносилось мимо, словно за окном скорого поезда. Его охватило страшное, мертвое безразличие ко всему на свете – фигура, навечно вмерзшая в глыбу льда. Несмотря на настойчивые уговоры, просьбы и приглашения учителей, вся деятельность казалась бессмысленной и обреченной, и он не выполнял ни капли больше положенного, залег на дно в стремлении пережить это все.
Раз за разом во сне и наяву он вспоминал тот день, когда ему пришлось покинуть дом: отец силой запихнул его в машину, сел сам и приказал отправляться. Благоговейный ужас застыл на побелевшем личике Кэти. Она бежала за машиной в полной решимости остановить ее, но в конце концов, плача от поражения, замерла, и худенькие ручки повисли вдоль тела. Машина все набирала скорость, и Кэти стремительно расплывалась, уменьшалась, превращаясь в крошечное пятнышко вдалеке…
В общей комнате для младших мальчиков, Лакейской Филиппа, наконец осела пыль и воцарилась тишина, но Майклу не спалось: слишком устал, чтобы думать о прошедшем дне, и слишком волновался, чтобы спать. Он закинул руки за голову и начал рассматривать потолочные балки, видя лишь их очертания – было темно, – но представляя, как там появляется знакомая картинка: лицо сестры.
«Нужно поспать, нужно поспать», – шептал за ухом голос Эда, когда Майкл проваливался в воспоминания чересчур глубоко, но все равно засыпал лишь под утро и потом весь день клевал носом.
В свободное время он тайком рисовал, забиваясь в углы библиотеки и галереи. Все залы Лидс-холла и даже деревья за его окнами предоставляли чистое вдохновение, но он никому не показывал свои рисунки – стыдился их – и не решался пойти на уроки живописи, продолжая с сожалением краем глаза посматривать в дверной проем художественной студии мистера Хайда, робко проникая в мир мольбертов, красок и высоких окон.
Друзей у него не появилось, несмотря на то, как отчаянно он нуждался в человеке, который помог бы ему вынести дыхание серости. Найти друга значило предать Кэти, и он мучился неизбывным, тягостным одиночеством, которого прежде не испытывал. Да и с кем дружить, когда все такие чопорные и претенциозные, холодные и далекие, как неизведанные планеты. Никто не представлял интереса для его израненного разума – никто, кроме него.
Фредерик Лидс. Даже имя звучало по-особенному, и Майкл раз за разом повторял его, пробуя на вкус. Фред был не просто прекрасен, а до боли непостижим, как герои картин, которых Майкл изучал с пристальным и неослабевающим упорством, но даже юноши с шедевров Морони, Вечеллио и дель Гарбо меркли перед красотой и величием Лидса – мальчика из мрамора, подобного богу, но не тому, которому поклонялся Филипп.
Прямая спина, умные глаза, непроницаемо спокойное выражение лица, мерный шаг – казалось, воздух расступался перед Фредом, будто высокие волны, – истинное воплощение старой Англии. Он заслоняя собой все, точно главный элемент на полотне, оттесняя в сизое марево остальных, маленьких и незначительных. Вокруг него все светилось, искрилось, подсвеченное неким секретом, в наличии которого Майкл не сомневался и отчетливо видел его цвет – кроваво-красный или, как он называл его, королевский красный. Впрочем, держался Фред всегда особняком – у короля не было свиты. Обычно Майкл искренне презирал таких мальчишек, считая их зазнавшимися и эгоистичными, но не Лидса.
В столовой и на уроках Майкл садился сзади и чуть сбоку, чтобы, онемев в благоговении, иметь возможность следить за ним. В каждом кабинете у Фреда было свое место, третья парта у окна – никто не смел занимать ее. Майкл переставал дышать, трепеща от восторга, когда в шорохе страниц, под мерное объяснение учителя незаметно для остальных наблюдал за своим божеством. Впервые за несколько дней показалось зимнее солнце, очертившее профиль Фредерика – он пылал в золотистом свечении, и можно было рассмотреть каждую ресницу, обрамляющую его глаза.
Фред был левшой, и Майклу это ужасно льстило. Отец всегда говорил, что это недостаток, дефект, изъян, и, видя свой почерк – хаос неподдающихся расшифровке закорючек, – Майкл был склонен согласиться. Наверное, у Фреда тоже отвратительный почерк, думал он. Когда все покинули класс, он нашел его работу. Нет. Безукоризненный, изящный, слегка старомодный, с затейливыми, уверенными завитушками почерк – идеальный, как и все остальное в нем.
По ночам лицо сестры на потолке не исчезало, но время от времени превращалось в другое – мальчишеское. Майкл снова отругал себя, повернулся на бок и попытался последовать совету Эда – поспать. Скрип кроватей. Мерное дыхание других мальчиков. Сопение. Храп. Вдруг с него рывком стянули одеяло – он вскочил, тщетно рассматривая сонными глазами силуэты в темноте. Четверо. Как всадников Апокалипсиса.
– Ну что, американец, – сказал Артур, самый высокий из них, скинув одеяло на пол. Он всегда стремился выделиться на занятиях, казалось, его ненавидели даже учителя. – Пора проверить, чего ты стоишь.
Сон как рукой сняло, сердце забилось чаще, губы пересохли, он будто облизывал наждачку – привкус крови во рту.
– Да ты не переживай, – почти дружелюбно произнес полноватый мальчишка, который поглощал сконы с изюмом – они никому больше не нравились. Майкл не помнил, как его на самом деле зовут, ведь все звали его Крепышом. – Это все проходят. Мы тоже прошли.
– Только не кричи. Если кто проснется, придется повторять заново, – объяснил долговязый в очках, кажется, Том. – Ты так просто не отвяжешься.
Стоявшие по бокам от кровати схватили Майкла за руки и потащили по дощатому полу к двери, а потом вниз. Он попробовал вырываться и, вопреки предупреждениям, вскрикнул. Ему тут же запихали в рот тряпку, пропахшую плесенью, – он закашлялся. Пятый, худощавый и рыжий, Брент, вратарь футбольной команды, присоединился к ним на первом этаже у выхода.
– Получилось? – спросил молчавший до этого светлый мальчик, чересчур бледный, словно выцветший от смертельной болезни.
– А сам не видишь? – В руках Брента звякнули ключи, в глазах сверкнул озорной огонек.
Мальчишки выволокли Майкла на улицу. На дворе стоял январь, ночью температура в Суррее падала до нуля, а на Майкле только пижама, зато со школьным гербом – по крайней мере, полиция сможет опознать труп, подумал он, – холод проворно забрался под ткань, его трясло. Хотя бы на ногах оказались носки, иначе они бы так и тащили его по земле босиком.
Когда он ударился коленкой о лестницу, острая боль заставила его замычать. Следующий удар он получил уже намеренно – Артур дал ему подзатыльник, неприятный, но слишком легкий, чтобы сделать больно. Дилетанты, им нужно взять пару уроков у Джейсона Парсонса.
Они протащили его по гравию за Лакейскую Филиппа, а после потянули через голый заиндевевший луг к бескрайнему лесу, черневшему вдали, – темень, точно тушью закрасили. Ученики любили придумывать байки о чаще Лидсов, сидя в общих комнатах у камина, таким образом настоящая история обросла кучей леденящих кровь подробностей. В сердце чащи притаился фамильный склеп Лидсов (это официальная информация, говорил каждый, кому возражали), и теперь ненавидящие все живое привидения бродили среди деревьев в поисках жертв (Сущая выдумка! – А вот и нет!). Майкл не верил этим небылицам, однако помнил наказ директора, строгий и категоричный: в лес ни ногой. Запрещено уставом школы и повлечет не просто отстранение от занятий, но и исключение. Отец убьет его, если он вылетит, не продержавшись и месяца. Майкл заерзал, Артур схватил его за рубашку, вырвав из рук товарищей, кинул на промерзшую землю и ударил по животу носком ботинка.
– Да заткнешься ты или нет? – прикрикнул он. – Вы все, америкашки, такие? – Он жестом приказал светлому и Тому подхватить Майкла снова, что они и сделали.
На этот раз удар разрезал его надвое, вырвал стон боли. Это напомнило Майклу о тех днях, когда отец порол его плетью, нагнув поперек стола, и он по привычке попытался зацепиться за что-то взглядом, мысленно перенестись в это, как делал в кабинете, но в черном бархате неба ничего не разглядел – ночь была застывшей и безлунной.