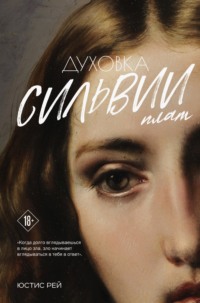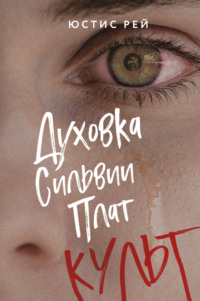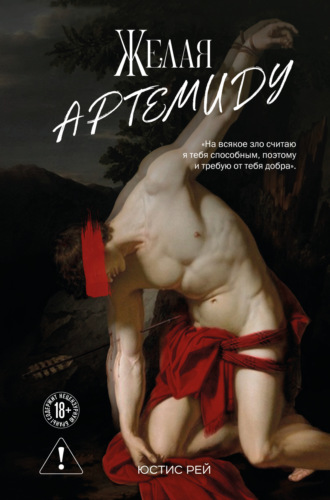
Полная версия
Желая Артемиду
Майклу не сразу удалось разглядеть оранжерею, спрятавшуюся от глаз в листве в глубине сада. Он приставил ладонь козырьком ко лбу. Оранжерею – строение из стекла и черного дерева – густо обвил плющ, и только кое-где виднелись вытянутые мутные окна; купольная крыша придавала ей внушительный вид.
Он переступил порог и будто переместился на три века назад. Такое впечатление производило все поместье, но в оранжерее это чувство утратило беспокойную нотку. Внутри все зеленело, цвело буйным цветом, пахло сладко, дурманяще и пьяняще. Тишь, благодать, спокойствие. То самое спокойствие, к которому он стремился, которого так жаждал. Лучи солнца едва проникали внутрь, рассеянный полумрак укрывал здешних обитателей. Грейс возилась с розами и напоминала одну из скульптур, что он видел в саду. Она стояла спиной, и на миг Майкл подумал, что она не шевельнется, словно ее зачем-то принесли сюда, разлучив с остальными, навечно окаменевшими женщинами. На ней было чайное платье в эдвардианском стиле: шелк, длинные рукава, воротник-стойка, лиф, расшитый цветами – воплощение невинности, – но внимание привлекли не ткань и не крой, а цвет: кремовый, почти белый, за которым ощущался едва уловимый внутренний изъян хозяйки. От негодования у Майкла невольно сжались кулаки.
– Ты в курсе, что неприлично заставлять гостей ждать? – спросил он, удивившись собственному небезразличию. Он-то намеревался сохранять спокойствие, неприступную холодность.
Грейс как ни в чем не бывало продолжила работу. Майкл скрестил дрожащие руки на груди. Грейс всегда была бледной и очень худой, сдержанной, отрешенной от мира, словно через прозрачные трубки из нее выкачали душу, но он находил в этом какой-то необъяснимый, особый шарм. Однако теперь, подойдя ближе, Майкл отметил, что в ней божественной искрой загорелся непривычный намек на жизнь: ресницы и брови потемнели, щеки слегка порозовели – она несомненно посвежела после смерти брата, словно его нерастраченная сила, подобно жидкости, перетекла из одного сосуда в другой – перетекла в оставшегося навеки одиноким близнеца.
– Давай повежливее. – Голос, что клинок, безжалостно отрезал каждое слово, выражая бесстрастностью куда больше, чем могли эмоции.
Она взяла лупу и, нагнувшись над бутоном, рассматривала его с интересом ювелира, подобно тому, как рассматривают редкий и очень драгоценный камень.
– Я не намерен провести тут вечность. Нас все ждут.
По спине пробежал холодок, когда он еще раз, но уже про себя, произнес это странное, такое неподходящее слово – нас.
Грейс положила лупу на столешницу, испещренную мелкими трещинками, и начала медленно стягивать рабочие перчатки.
– Сегодня отличная погода, не правда ли?
Их глаза встретились через зеленый сумрак впервые после похорон. Ее глаза. Там, в глубине, ничто не дрогнуло. С другими девушками он успешно играл в гляделки, вынуждая их трепетать, хихикать и заливаться краской, но Грейс знала, как заставить его моргнуть. Он пораженчески потупил взгляд в пол, ослепленный немым, но яростным напором, и невольно обратил внимание на ее обувь, которая удивительно контрастировала с легкостью платья, – кожаные ботинки, слишком теплые для лета, слишком грубые для женщины.
– У меня сейчас чертовски неподходящее настроение для светских бесед, – сказал он в сторону.
– Почему?
Он с силой сжал челюсти. Его обволакивало дурманом, затягивало в медленно застывающее вязкое болото. Растения шевелились, но в оранжерее не было и намека на ветер. Листья и бутоны смотрели с укором.
что уставились
– Недавно умер мой лучший друг.
– И мой брат.
Майкл снова осмелился взглянуть на нее и невольно вообразил, как они, запертые в запахах и цветах, спорят до хрипоты в попытке доказать, кто пострадал сильнее от смерти Фреда. Как ни крути, лишь родившись, Грейс обрела больше прав, однако он не уступил бы ей пальму первенства так легко.
– Кажется, я любила его больше, чем представляла.
– Я завидую твоей любви.
Она смотрела куда-то сквозь плющ, обвивший стеклянную стену с обратной стороны, а он – на нее. Внезапно его захлестнул пугающий резкий прилив дикого желания вжать ее в столешницу и разорвать на части среди благоухающей зелени.
Я хороший человек… Я хороший человек…
– Давай быстрее покончим с этим, – почти умоляюще произнес он, голос предательски захрипел.
– Этим?
– Празднованием. Не хотелось бы расстраивать планы Агнес, она и без того выглядит несчастной.
– Это была моя идея. – Признание произвело нужное впечатление – Майкл замер на несколько секунд.
– Еще скажи, что по собственному желанию включила меня в список гостей?
Молчаливое согласие, выраженное пристальным взглядом, привело его в еще большее замешательство.
– Почему?
– Он был твоим лучшим другом. Это что-то да значит.
– Бывшим другом.
– Не бывает бывших лучших друзей.
Она использовала запрещенный прием – внимательно слушала (это он усвоил давно – Грейс была из тех, кто слушал чутко, впитывая все, выжигая каждое слово в сознании, записывая, словно на кассету, – с такой не забалуешь), и он растерялся, надолго затих, чтобы не привести самого себя к положению, где каждый следующий ход невыгоден для него же. Цугцванг. Кажется, это так называется.
– Отмечать приближение смерти, – продолжила Грейс, – в этом есть какая-то абсурдная безысходность, почти как в религии.
Если бы Филипп Лидс услышал ее, то наверняка умер бы во второй раз, ведь подчинил религиозности свой дом и Лидс-холл, поддерживал в первозданном виде церковь на территории школы, развесил по коридорам картины с библейскими сюжетами. Истинный верующий. Он и выглядел так же. Непогрешимым. Святым.
– Твой отец выпорол бы за такие слова. – Майкл живо представил ее перед собой на коленях и до крови закусил щеку, чтобы затушить этот опасный, но такой восхитительный образ. Продолжать вести эту светскую беседу становилось все труднее и невыносимее, как засыпать с переполненным мочевым пузырем.
– Он предпочитал иные способы наказания, – ничуть не смутившись, ответила Грейс. Его кольнуло оттого, что он не смог ее ранить. – Он умер, зная, что в мое мировоззрение не вписывается идея существования Творца, создавшего нас по образу своему и подобию. Все не так. Люди придумали Бога, потому что боятся неизвестности.
– А ты не боишься?
– Все зависит от угла обзора. Какого цвета эта роза?
Майкл взглянул на цветок, потом на Грейс, а потом снова на цветок.
– В чем подвох?
Грейс молчала, и он, пожав плечами, дал очевидный обоим ответ:
– Красная.
– А если я скажу, что она белая?
– Я отвечу, что ты неправа.
Она отступила, позволив ему занять свое место. Снаружи лепестки в самом деле были алыми, но сердцевина полностью побелела, словно ее выкрасили, как в книге Кэрролла.
– Что с ней?
– Мутация. Она единственная из всех, с кем это произошло. Я хочу изучить ее.
Не будь Майкл так беспричинно зол и чудовищно возбужден, он сказал бы, что эта роза напоминает ему ее, и втайне он давно мечтал сорвать с нее все лепестки, чтобы посмотреть, из чего она сделана. Но не смел – как и у брата, у нее были шипы.
– Да, – неловко кивнул он, опершись на столешницу. – Отмечать приближение смерти – полнейший бред.
– Этого я не говорила.
– Разве?
– Например, мексиканцы считают смерть продолжением жизни в ином мире. Смерть – важный и ничуть не горький аспект их культуры. Они встречают мертвых с радостью.
– Поэтому ты в белом? Собираешься с радостью встречать мертвецов?
– Думаешь, сегодня мне это удастся?
Один из них стоял перед ней, но он посчитал лишней и постыдной такую степень откровенности.
– Я не мексиканец, – глупо сказал он.
– Ты ведь из Аризоны [14].
– Вы, англичане, такие чопорные, но порой ужасные невежи.
– А вы, американцы, – невежды. Чопорный и грубый – не антонимы.
– У меня английское образование, – запальчиво отозвался он и потер переносицу, вообще пожалев, что пришел сюда, что наговорил все это. Придурок, кретин, самонадеянный идиот… Холодность и отстраненность – только так он победит. Победит того, кто не соревнуется.
– До встречи с тобой Фред презирал американцев, – продолжала Грейс с ее мертвецки спокойной интонацией, – считал их дикарями: шумными, назойливыми, не отличающимися вкусом и манерами, а американское деланое дружелюбие его и вовсе сердило – открытость претила ему в людях. На умном лице, говорил он, улыбки, как правило, не бывает.
– Моя мама из Беркшира.
– Что ж, повезло.
Грейс стала на носочки, прогнулась вперед – все движения преисполнены плавности и грации – и отставила горшок с розой к окну. Подол платья качнулся, открыв взору Майкла белизну ее ног, совсем немного, лишь пару дюймов над ботинками, но даже этого хватило, чтобы внутри у него все сладостно стянуло.
Согласно европейским нормам приличия прошлых веков подол платья закрывал женские ноги, оставляя на виду только обувь. Во избежание конфуза и позора женщины, помимо длинных платьев, носили ботинки, закрывающие лодыжки, пряча все, что каким-либо образом будоражило мужские сердца и души. Майкл высмеивал эти пуританские, ханжеские взгляды, не понимая, насколько отчаявшимся и сумасшедшим должен быть мужчина, чтобы возжелать женщину и оказаться в ее власти, увидев лишь кожу ее ног, но теперь смех внутри него утих. Не осталось даже эха. Он невольно представил, как обхватывает ноги Грейс и поднимается выше, юбка с шорохом скользит вверх, собираясь вокруг него пеной. Он смочил сухие губы, прогоняя это неуместное, но такое будоражащее видение.
Роза! Смотри на розу, сказал он себе. Может, Грейс накроет ее стеклянным куполом, как в сказке? Она этого не сделала. Ей самой тоже нужен купол. Он бы хотел, чтобы она была спрятана под куполом – вся она, целиком и полностью. Чтобы никто, кроме него, не касался ее.
– Фред говорил тебе об этом?
Он совершенно выпал из реальности, несколько секунд не отводил взгляда от ее губ, робко поджимая собственные.
– Ты… ты последний человек на земле, с которым я хочу это обсуждать.
– Понимаю, – ответила она так, будто в самом деле понимала.
Его щеки предательски обожгла кровь. Он опьянел от ее взгляда, голоса, запаха – запаха леса. Был обвит ее паутиной, бесповоротно очарован и околдован. Сердце неистово колотилось. В тщетной попытке спастись он отступил, и непослушный луч солнца, проникнув в бездонный мрак через стеклянную крышу, ударил ему прямо в глаз.
– Да, – поморщился он, – сегодня отвратительно хорошая погода.
– И у меня сегодня день рождения.
– Что ж, с днем рождения.
Младенец
С той ночи, когда ослепительные изломанные полосы едва не разорвали небо в клочья, когда мир Майкла раскололся надвое, приобретя четкую границу До и После, прошла вечность – все припылилось однообразием будней. Пролетела череда завтраков и ужинов, солнечных и пасмурных дней, ореховых трюфелей и пресной овсянки, периодов затишья и наказаний, прежде чем живот мамы раздулся до таких размеров, что скрывать новость не было никакого смысла – она ждала ребенка. Он хочет продолжаться, услышал как-то Майкл на кухне шепоток прислуги. Он все крутил фразу в голове, да так и не понял, о чем шла речь. Больше походило на то, что продолжаться и шириться хотела Кэтрин: внутри нее рос надувной шар. Ждет ребенка. Это как? Его доставят по почте? По морю или по воздуху? А если не понравится, можно вернуть? Странные эти взрослые. Мама же нигде не сидела и ничего не ожидала, как и прежде удовлетворяя все порывы отца, тщетно пытаясь унять его жестокий нрав, а в перерывах все так же вела бессмысленные беседы с такими же богатыми дамами, прикрываясь то блюдечками и чашками с золотыми ободками, то платьями, то книгами. Женщины любили щипать Майкла за щечки, ворошить его волосы, угощать десертами и приговаривать: какой же красивый мальчик! – и впиваться длинными наманикюренными коготками в его щеки.
– Извини, Эдмунд, – уже более серьезным голосом говорила тетя. – Не хочу тебя обижать, но твой младший брат – это что-то с чем-то. Ты у нас что-то с чем-то, да? – пролепетала она и уже по-взрослому продолжила: – Тебе будет ох как непросто, когда он подрастет и начнет разбивать девичьи сердца. Боже, какие глаза!
Воспользовавшись благосклонностью восторженной дамы, Майкл стянул кексик, который давно подмигивал ему шоколадной начинкой с ее тарелки.
– Как замечательно, что у вас будет малыш. Какая сладкоежка, вы посмотрите! – хохотнула она, глядя на то, как Майкл, точно хомяк, запихал выпечку за щеки. – Кушай, дорогой, кушай! Хочешь еще? – Она всучила ему еще один.
Молодые и не очень тети приходили от него в безудержный восторг, но все же что-то шло не так. Майклу исполнилось пять лет, а между пятью и четырьмя – целый океан. Он перестал быть тем малышом, каждый шаг и слово которого вызывали аплодисменты и улыбки. Они сменились на восторженные комплименты незнакомцев и равнодушие матери. Она больше не читала ему, позволив положить голову к себе на грудь (он любил, когда слова шли из глубины, из самого сердца), не бежала к нему по первому зову и сердилась, когда он громко плакал, разодрав коленку. Детство безвозвратно ушло, что-то слегка пошатнулось, когда он произнес первое слово, и навеки изменилось, когда он начал осваивать предложения: требования отца становились слишком жесткими, а главное, он терял внимание матери – оно могло достаться кому-то другому…
Трагедия разразилась внезапно. Живот мамы так распух, что казалось, ее разрывает изнутри. Эд говорил, что это естественный ход вещей, – он читал об этом в книгах, но Майкл был не способен постичь эту жизненную ветвь и лишь с нетерпением ждал, когда она вернется, чтобы убедиться, что с ней все в порядке.
Все было в порядке, но теперь в доме стало на одну Кэтрин больше. Ее имя сразу же исковеркали, придумав сокращения и прозвища. Какой смысл повторяться в именах, если это вызывает такую путаницу? Порой взрослые совершенно не понимают, что делают.
Джейсон ни разу не взял дочь на руки. Разочарование в ее появлении тянулось шлейфом за разочарованием, которое он испытывал по отношению к Майклу, но все же было несравнимо с ним, ведь Кэти, которая на всех УЗИ казалась мальчиком, родилась девочкой – а это та еще печаль. Третий ребенок. Им нужен третий ребенок. Мальчик. И, конечно же, достаточно мужественный, умный, смелый, деятельный и сильный, как отец. Собственно, такой молодой человек уже жил в доме – двенадцатилетний Эдмунд Парсонс соответствовал всем требованиям отчима, но из-за отсутствия кровного родства Джейсон безжалостно смел его фигуру с доски потенциальных наследников.
Кэтрин тяжело перенесла роды, с многочисленными разрывами и обострениями заболеваний, – о следующем ребенке в ближайшие годы не может быть и речи. Джейсон отгородился от жены, переселив ее в дальнюю спальню для гостей, спрятав измученную и резко осунувшуюся, точно узницу концлагеря, женщину подальше от гостиной, где ненароком ее могли увидеть люди, на которых во что бы то ни стало нужно произвести хорошее впечатление. И он хотел его производить, но мнимые приличия, деньги и связи проигрывали жестокой натуре, и пока Кэтрин мучилась болями во мраке одинокой спальни, выбирал окольные пути, проводя свободное время с другими, более молодыми женщинами. В их компании Джейсон выжидал, когда Кэтрин, подобно солдату, вернется на передовую, чтобы как следует исполнить свое главное предназначение.
– Она милая, – шепнул Эдмунд, нависнув над кроваткой.
Девочка точно с первого дня поняла, в какой семье родилась, и поэтому почти не плакала, пытаясь не докучать отцу, который возненавидел ее, не успев узнать. Майкл глядел на малышку через перила кроватки как на неизвестную зверушку в клетке: сосредоточенно и озадаченно. Его длинные ресницы подрагивали.
– Хочешь посмотреть поближе? – спросил Эд.
Майкл качнул головой, но под настойчивым взглядом брата все же сдался. Эд придвинул голубое кресло вплотную к кроватке, Майкл забрался на него и уставился на младенца с видом признанного ученого, исследовавшего неопознанный объект. Да, ее звали Кэтрин, но он никогда не называл ее так, даже про себя. В его жизни была всего одна Кэтрин, к которой он стремился.
Он оперся на перила и нагнулся ниже, и девочка, почувствовав его присутствие, распахнула глаза, вобравшие в себя цвет неба. Она открыла ротик, и Майкл замер, решив, что она сейчас закричит или заплачет. В те редкие минуты, когда она все же хныкала, он вспоминал или, скорее, додумывал собственную младенческую беспомощность: как спал целыми днями, а когда открывал глаза, его приветствовало бескровное лицо матери, и он мечтал вернуть то беззаботное время, когда она прислушивалась к каждому его вздоху.
Малышка не издала ни звука, и он коснулся ее мягкой розовой щечки, нежной, словно крыло бабочки. Девочка подняла ручонку и схватила его за палец, сама того не ведая, погубив братскую ревность и предвзятость младенческой непосредственностью. Майкл онемел, он и не представлял, что это существо способно совершать такие фокусы. Кэти растянула рот в беззубой улыбке, и Майкл, окончательно растаяв, робко улыбнулся в ответ.
5
Миссис Парсонс привлекла всеобщее внимание деликатным покашливанием, прервав неловкую затянувшуюся тишину, разрезаемую лишь скрежетом столовых приборов.
– Раз все собрались, полагаю, я могу вручить имениннице подарок.
Кэти выпрямилась струной в ожидании, не сводя блестящего, полного симпатии и почтения взгляда с Грейс, пока та в манере неприлично богатой вдовы разворачивала подарочную упаковку, в которой нашла футляр в темно-синем бархате.
– Тебе нравится? – поинтересовалась Кэти.
Впервые за долгое время уголки рта Грейс приподнялись, впрочем, она быстро оставила попытку улыбнуться.
– Спасибо. Очень красиво.
Майкл, подобно сестре, не сводил с Грейс глаз, тщетно ожидая ошибки, которой стал бы ее восторг. Если бы только она захотела надеть колье на себя и весь вечер напрашивалась на комплименты, у него наконец-то появился бы веский повод перестать метаться между злобой и очарованностью, в котором он отчаянно нуждался, ведь вопреки желанию неизбежно тянулся к благосклонности, симпатии и страсти, давно переросшим в одержимость. Он страдал от одержимости ею несколько долгих лет, пока был учеником Лидс-холла, болел ею: тосковал, иссыхал, мучился, раз за разом искал ее силуэт в длинных коридорах, ее глаза – в мрачных читальных залах, ее запах – в освещенных солнцем лекториях, но увлекаясь ею, боготворя ее, он предавал память о Фреде, заботившемся о сестре с преданностью религиозного фанатика.
Все рухнуло, задев Майкла осколками, – Грейс не подпитала его мнимой ненависти, выученно поблагодарила Кэтрин, передала футляр прислуге и больше о нем не вспоминала, оставшись холодной, как ледышка, и гордой, как принцесса [15].
что с ней черт возьми такое
Даже Фред любил дорогие вещицы – он был с детства ими окружен. Разве она жила не так же?
она не фред
Но ее умные, всезнающие и внимательные глаза, до прозрачности белая кожа, вьющаяся осень в волосах, манера держаться, осанка, голос – на всем расплывалась уродливым пятном смерть Фредерика, все в ней сквозило дыханием потери, и Майкл с трудом натягивал маску притворного спокойствия, сидя за столом с мертвецом, восставшим из могилы.
Его тело било судорогой, нетерпение и тоска нарастали. Он буквально закипал, закусывая щеки и губы, сминая скатерть и жестоко расправляясь с мясом – приборы так и скрипели, – пока женщины вели бессмысленные вежливые беседы, которые ведут лишь люди, не имеющие ничего общего. Призраки прошлого проникали в каждое слово, как ядовитый вездесущий газ.
– Может быть, зажжем свечи на торте? – предложила Кэтрин, когда десерт внесли в столовую.
– Или поедем на кладбище и откопаем Фреда, – отозвался Майкл, окончательно разняв мертвую хватку приличия, и намеренным резким жестом бросил приборы в тарелку. Внутри все зудело, и он, забыв обо всех обещаниях, которые давал брату, матери и себе самому, вскочил из-за стола. – Ему-то там тоже наверняка невесело.
Миссис Парсонс полоснула его «что ты творишь» взглядом.
– Прекрати вести себя как ребенок.
– Это вы как дети притворяетесь, что кто-то нуждается в этом лицемерном праздновании, пока он гниет там.
– Сейчас же сядь и извинись перед Грейс.
– Кэтрин, для начала всем нужно успокоиться, – миротворчески отметила Агнес.
– Мы спокойны, и Майкл тоже спокойно вернется на место и извинится, как и подобает настоящему джентльмену.
– И не подумаю. – Его кулаки сжались сильнее, и он был так беспричинно зол, напряжен, заряжен, как оголенный провод, что мог пустить их в дело. – Он же перед тобой не извиняется.
Лицо Кэтрин обратилось в пепельно-серую маску без деталей в виде губ и носа, остались лишь глаза, и там, в их глубине, вспыхнула цветом боль и ненависть. Ненависть к неудержимой натуре Майкла, так походившей на ту, что была у его отца. Кэти покорно опустила глаза, сцепив пальцы под столом. И только Грейс Лидс, ни капли не тронутая внезапной вспышкой гнева, изучала Майкла внимательным, пристально‐покойным взглядом. Казалось, еще минута, и она достанет из-под стола лупу и направит на него.
Мутация. Она единственная из всех, с кем это произошло.
Майкл вылетел из столовой в спешке, которую едва ли встретишь за пределами отделения скорой помощи.
Забота
От твида и старой роскоши щипало в носу – все было пропитано пылью. Туманный Альбион не поддавался пониманию Эда, как и пониманию Джейсона, который настоял на переезде, чтобы занять пост в главном филиале табачной компании в Лондоне – официальная версия для прессы. На самом деле Джейсон бежал из Америки стирая ноги в кровь из-за разногласий с отцом, что был подобен Кроносу [16], пожиравшему своих детей. Джейсон, пережеванный и выплюнутый, сломленный и разорванный в клочья, все же выжил и в попытке окончательно не потерять расположение отца и его деньги – предпочел переплыть океан. Будучи взрослым, он всеми силами отрицал собственное незнание, бессилие и поражение, пренебрегал неудачами, пользуясь главным американским принципом: «Притворяйся, пока это не станет правдой». Стоит отметить, в притворстве он преуспел.
Первым ростком новой жизни пробился классический английский дом, окруженный дикой природой, которую с удовольствием изучали дети, впрочем, гулять по лесу и купаться в озере без присмотра им запретили. Имение старший Парсонс приобрел у разорившегося по глупости и беспечности титулованного англичанина, готового продать землю практически за бесценок. Джейсон перекроил все по не отличающемуся изысканностью вкусу – наичуднейший дом, этакий архитектурный монстр Франкенштейна – с эркерными окнами и вальмовой крышей (стандартно английский) снаружи и замысловатый и экстравагантный (стандартно американский) внутри – такой же, как и хозяин, изнемогающий от противоречий и дисгармонии. Со временем игра в роскошь, собственная значимость вдали от могущественного отца и мнимая, но упоительная принадлежность к высшему английскому обществу так увлекли Джейсона, что он провалился в яму сладостных иллюзий, откуда видел мир под редким, удобным лишь ему углом. Монумент американской вычурности утонул в неотступном океане английских традиций и правил, породив не самую удачную, но старательную репродукцию англичанина. Джейсон тщательно перенимал английские интонации и культурные традиции, спуская баснословные суммы на правильную одежду и обустройство дома. Именно поэтому – назло отцу – Майкл с упорством и стойкостью культивировал и приумножал в себе все американское, увлекаясь настолько, что порой становился похожим на безграмотного жителя американской глубинки.
Пририсовав своей карикатуре забавные усики, Майкл повернул блокнот и показал ее Эду, вызвав у него одобрительный смешок. Желая получить еще больше внимания, Майкл вскочил с кровати, для пущего эффекта выпятил живот и зашагал по комнате, переминаясь с ноги на ногу, изображая их экономку Дорис.
– Овсянка, сэр, – пародировал он ее британский акцент и тяжелую походку.
– У тебя хорошо выходит, – признал брат, еще раз взглянув на рисунок.
В раннем детстве Майкл рисовал так же, как и все дети, но стремление к одиночеству и уединенности, безразличие родителей и поддержка Эда подарили ему время и силы, которые вкупе со старанием и упорством проросли умением: его рисунки обратились в осмысленные картины, отличавшиеся не профессионализмом – пока нет, – но невольным пониманием, чувством цвета и композиции. В тщедушном тельце мальчишки разгоралась искра бессмертного гения.
Майкл продолжал шествие, проводя шутливую лекцию о полезности чая, и так увлекся, что не заметил мать, тенью замершую в проеме.