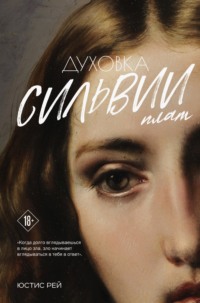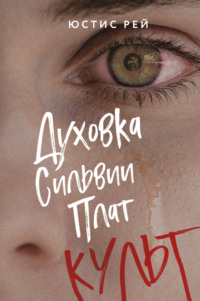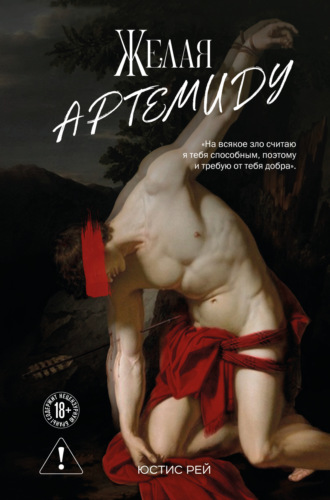
Полная версия
Желая Артемиду
Мрачное прошлое подмигивало ему, зазывало к себе, как сирены на скалах, – и вина, что душила годами и, казалось бы, уже износилась и вышла, снова обвилась вокруг него пульсирующей пуповиной. Он мигом нагнулся к столешнице и бездумно вдохнул краски: глаза повлажнели, в затылке закололо, сердце болезненно зашлось, пульс клокотал в ушах – его тщедушное тело, измученное болью и горем, едва не разорвало на части. Сознание взмыло под потолок в лучистой радости, и наконец он, сын человеческий, отгороженный от мира стеной из яблока, получил несколько упоительных секунд. Секунд тишины. Полной и всепоглощающей.
Он едва ощущал, как Шелли сжала его колено пальцами.
– Он был моим другом. – По виску потекла слеза. – Он был моим лучшим другом…
– Знаю, мой мальчик. – Она погладила его по щеке и спустилась на колени, устроившись между ног.
– Нет, – прохрипел он и дрожащими руками взял ее за запястья в попытке поднять. Он отчаянно нуждался в заботе, хотел, чтобы Шелли просто обняла его, прижала к груди и гладила по волосам, пока он не уснул бы в слезах, а вовсе не ощущать ее пальцы, расстегивающие его ремень, тянущие язычок молнии.
Стеклянный взгляд уставился на потеки на потолке, и он вообразил себя этой рыжей размазанной линией, увидел все как бы со стороны: Шелли, возившуюся с едва живым телом, полоску кожи на ее спине, где из-под пояса юбки выглядывали, скорее всего, крылья бабочки, но он отчего-то видел их крыльями падшего ангела. Ангела, унесшего сотни жизней. Представил на месте Шелли Грейс Лидс – только так он мог переносить вечера, когда хотелось пустить пулю в лоб.
Грейс. Та самая Грейс Лидс, которую он обещал себе ненавидеть. Он напрягся и схватил ее за волосы. Ее глаза, язык, теплый рот, влажный жар. Он содрогнулся – липкий, краткий миг, а потом его снова нагнали тени. Повалили на пол и били носками ботинок.
Напряжение между ними рассеялось после второго захода, а может, третьего? После третьего вести счет просто неприлично, говорила Шелли. Задыхающиеся от счастья и любви ко всему живому, они пели и танцевали, пили и курили – как в старые недобрые времена. Все потеряно. Все возможно.
Потные тела скрутились на полу, хватаясь за животы, едва не умирая от смеха, а смешило их все на свете: «Какой маленький телевизор, ты посмотри!» «Слышишь, как скрипит?» – сидя на кровати, Шелли подпрыгивала, и матрас действительно истошно скрипел, приводя их в неописуемый детский беспорядочный восторг.
Уголки рта Елизаветы опустились, Черчилль еще сильнее нахмурился[8].
вы не имеете права меня осуждать ублюдки да я вас да я вам
Что именно Майкл с ними сделает, он так и не придумал.
Извилины в мозгу падали и рассыпались подобно костяшкам домино – одна за другой, голова трещала – он едва видел. Проблевавшись в ванной, уснул на голой плитке – холод к щеке, дрожь на кончиках пальцев, кислота во рту.
Очнулся, стоя на коленях у телика, прижавшись к экрану лбом.
Трясущимися пальцами он набрал Кэти сообщение – сине-белесый свет резал глаза – и проверил его с десяток раз, чтобы не выдать себя глупой ошибкой: «Я в порядке, нужно немного времени. Справишься?», и получил ответ: «Конечно. Жду тебя. Береги себя». И как его тринадцатилетняя сестра умудрялась быть самой умной женщиной, какую он только знал?
Прикончив бутылку, Шелли беззаботно посапывала, раскинувшись звездой на кровати: расстегнутые сапоги, задравшийся топ, всклокоченные волосы, мерно вздымающаяся грудь – видя ее спящей, Майкл испытывал к ней щемящую нежность и вину за то, как эгоистично пользовался ее положением. Он пропустил последнюю сигарету и вышел за новой пачкой, по крайней мере, так объяснил себе желание сбежать.
В конце коридора все так же беспокойно мигал свет, но внезапно совсем потух, погрузив его в темноту, шедшую кругами и ромбами. Его бросало от одной шершавой стены к другой, словно неопытного моряка на корабле в шторм. Когда свет снова замигал, он обнаружил, что номера указаны не только на двери, но и на ковриках, будто на случай, если гость напьется до такого состояния, что придется добираться ползком. От частого моргания подступил новый приступ тошноты – внутренности содрогались от спазмов.
Побив себя по карманам, он не нашел денег и поплелся обратно в номер в надежде их отыскать. Никак не мог избавиться от ощущения, что из темноты коридора за ним кто-то следил, два голубых глаза – красивые и пугающие в своей холодности. И вот свет снова исчез, загорелась лишь последняя лампа в конце коридора. Вдали чернел силуэт. Майкл шагнул, но уперся в невидимую стену. Колотил по ней, стирая руки в кровь, задыхался и молил о прощении – бился за ней что есть силы, бился за этой вечной стеной непонимания.
Ты приползешь, как сейчас, и будешь молить принять тебя обратно, ползать в ногах, задыхаться и захлебываться слезами. Ты приползешь, потому что без меня ты не существуешь.
И это было правдой. Фред был прав.
Стена рухнула волной, и пена из осколков пронзила его насквозь. Бессилие свалило его на пол. Из запястий, изрезанных вдоль, пульсирующими рывками билась кровь, темно-сангиновая, почти бурая, и его трясло, как в припадке эпилепсии. В густой жидкости копошилось нечто живое, дергало лапками в отчаянной, но тщетной попытке спастись. Коридор расплывался, кружился, замирал и двоился, будто в причудливом калейдоскопе или сразу в десятках зеркал в комнате смеха. Но никто не смеялся.
я буду умолять я буду умолять только прими меня обратно
Вылилась внутренность вся, и глаза его тьмою покрылись [9].
Гроза
Молнии сверкали за стеной свинцовых облаков, заливая комнату дрожащим кристальным светом. Напуганный Майкл притаился в темноте, в гнездышке под одеялом, в призрачной надежде скрыться от всевидящего ока громовержца Зевса, которым, как и другими богами, пугал его отец. Майкл усилием воли пытался заставить сердце биться реже, тише, перестать биться вовсе. Несмотря на возраст – всего четыре, – благодаря отцу он не питал иллюзий насчет дружелюбия реальности, которая подчинялась взрослым, по большей части плохим взрослым, но теперь все стало как никогда зыбким, словно он повис на краю пропасти, не в силах ни откатиться, ни спрыгнуть. Раскат грома, злобный, гневный, жуткий, раз за разом вынуждал маленькое сердце проваливаться в желудок, а после быстро взмывать, ударяясь о ребра. Может, недаром отец говорил, что гром свидетельствует о проступках Майкла и нисходит на землю наказанием за его неподобающее поведение? В то утро он стащил с кухни ореховые трюфели – его любимый десерт – и съел их, не дождавшись обеда и ни с кем не поделившись.
Джейсон Парсонс пугал сына не только в воспитательных целях – с извращенным садизмом он превратил это дело в хобби, едва ли не вид спорта, изобретал все новые выдумки, вылетавшие из его рта с деланым спокойствием и мудростью, о притворности которых в силу возраста Майкл не догадывался, веря в то, что слова обладают лишь одним, известным всем смыслом. «Если ты не доешь обед, к нам в дом ворвутся люди в масках и убьют всех до единого. Слышишь? Всех до одного. Перережут маме горло (проводит большим пальцем по шее) – вот так вот». «Когда заходишь в мой кабинет без спроса, в мире умирает один человек (щелчок пальцев) – вот так вот». «Болит, да? Врачам придется сломать ее снова, ведь ты плачешь каждую ночь, а мальчики так не делают» (касается гипса и сжимает, отчего Майкл, стянув губы в нитку, едва сдерживает слезы).
В его сознании плавала картина прошлого лета: отдых на юге Франции – лучистое небо, синева, режущая глаза, стрекотание цикад разрезает воздух, листья говорят друг с другом на собственном языке, присущем только деревьям…
Он долго стоял у кромки бассейна, в нерешительности переминаясь с ноги на ногу. Это был очень глубокий бассейн – для взрослых, но «если будешь плавать в лягушатнике, то навсегда останешься маленьким» – а это был самый ужасный страх Майкла: остаться таким же глупым, никчемным и навеки зависящим от отца.
Каждый день он не решался войти, с тоской и сожалением наблюдая за прозрачной гладью воды, которую с такой бездумной простотой разрезали загорелые отцовские руки. В тот раз – солнце уже в зените, и ему не по себе чуть больше обычного – его внезапно толкнули. Сердце пропустило удар. Все неслось перед глазами цветастой, яркой, но пугающей круговертью, и он трепыхался, размахивая руками и ногами в попытке избежать смертельной опасности. Что скажет мама, когда на другой конец света по проводам ей принесут новость о его смерти? Будет ли плакать? Он отчаянно пытался взлететь, не раз видел такое в мультиках – нарисованные конечности Тома и Джерри порой двигались так быстро, что превращались в смазанные пятна: почему он так не мог? Он погружался на дно, беспомощно и растерянно барахтаясь, глотая воду, судорожно дергался и захлебывался.
Его подхватили тонкие, но сильные руки и выволокли на поверхность – все еще бледные, они всегда прятались в тени с книгой – руки Эда. Он посадил брата на борт бассейна, и пока тот кашлял, выплевывая воду, и тихо плакал, уткнувшись лицом в ладони, сверкнул глазами на отчима – недетский, полный решимости взгляд. Решимости отомстить.
– Он справился бы сам, – отметил Джейсон с заносчивой ноткой, задрав подбородок так высоко, что Эдмунд не уловил грозного блеска в глазах, но ощутил в голосе тот привычный тихий гнев, который ощущал каждый раз, когда расстраивал планы отчима, и, чтобы не навлечь на себя гнев реальный, промолчал, сжав руки на старенькой обложке «Властелина колец». «Эти твои книжки – напрасная трата времени».
Раскаты грома усиливались, едким дымом проникали под одеяло, и, как бы Майкл ни кутался, от этого звука, а главное – от наказания, было не спастись. Что, если признаться? Попросить помощи? Майкл не обратился бы к отцу, даже если бы в самом деле висел на краю пропасти – ее неумолимая чернота затягивала неизвестностью, но неизвестность лучше, чем мир, созданный для него Джейсоном. Майкл страшился реакции отца на все – за четыре года жизни он так и не научился ее предугадывать. Когда они с Эдом залезли на дерево, откуда Майкл свалился, сломав руку, отец пожурил его с непривычным, пугающим дружелюбием, потрепав большой пятерней по волосам: «Каков разбойник, а?» Но когда дело доходило до сущих глупостей: разбитых чашек и пролитого сока, смятых покрывал и открытых книг, оставленных на журнальных столиках, отец, подобно оборотню в полнолуние, терял человеческий облик.
Минуты шли, а сон – нет. Легкие сдавливало от духоты, болел бок – Майкл лежал смирно слишком долго, в горле пересохло. Неужели Эду сейчас так же страшно? Говорят, супергерои носят плащи и обладают сверхсилами, но у Эда не было ни того ни другого, однако Майкл с детской искренностью верил, что Эд, как рыцарь из книжки, ничего не боится, ведь он призван в мир, чтобы защищать слабых. Нужно рискнуть и добраться до героя!
От холода деревянных полов по его телу пробежала дрожь, но искать носки или тапочки в темноте не набралось смелости. Он прокрался в коридор, закусив щеку, чтобы не стучали зубы. Белесый заряд молнии – и чуткие глаза ухватили в темноте приоткрытую дверь. Дверь в кабинет отца, которую тот всегда запирал, и никому – даже маме – не было позволено входить без разрешения. Богатое детское воображение рисовало ужасные картины того, что за ними скрывалось, но то были не четкие кадры, а расплывчатые, едва уловимые наброски всего жуткого, что Майкл когда-либо видел. Такая недоступная и секретная, комната манила его каждый раз, когда он встречался с ее одиноким маленьким глазом – замочной скважиной, в которую никогда не заглядывал до той ночи.
Вдруг дверь со скрипом закрылась, словно невидимая рука, толкнувшая ее, стремилась защитить Майкла от того, что происходило внутри. На ней была лепнина, из лабиринта которой он никак не мог выбраться, хотя часто пробегался по нему глазами. Теперь он ощущал узоры под пальцами. Комната, едва освещенная тусклым светом настольной лампы и отблесками молнии, вселяла тревогу: золотые буквы на корешках книг, тяжелые гардины, намертво присохшие к стенам, копошение на столе – трепыхание жизни.
Майкл отпрянул, решив, что увиденное ему почудилось – как в жутком калейдоскопе, но внутри все кололо и чесалось: посмотри, посмотри, посмотри – он заглянул снова.
На отцовском лице застыла гримаса ярости – как на тех зловещих венецианских масках, что показывал ему Эд на страницах книг. Он не сразу признал в этом мужчине своего отца, мать тоже казалась незнакомкой, лежала на животе поперек стола, зажмурив глаза. Отец двигался позади нее, словно пытался забить ее в столешницу, как гвоздь, – внутренности ящиков гремели, настольная лампа так и норовила, добравшись до края, повалиться на пол. Все замерло, как на стоп-кадре, навеки врезавшись в хрупкое, податливое сознание.
Вмешаться, по всем ощущениям нужно вмешаться, но стоит ли: взрослые зачастую говорили и делали странные вещи. Сдавленный стон, будто подстреленное животное просит о помощи, шорох, лампа с грохотом падает на пол – раскат грома поглотил все звуки. Майкл обмяк возле двери. В штанах намокло, потекло по ногам, лужицей разлилось на пол. Он едва не расплакался от этой ужасной несправедливости, влажности и мерзкой теплоты. Рука зажала ему рот и оттащила в глубь коридора, туда, где молния освещала пол вытянутыми стальными прямоугольниками. Майкл безуспешно отбивался.
– Тихо. Не кричи, – шикнул ему знакомый голос. – Я отпущу, только не кричи.
Эд резко повернул брата лицом к себе, молча кивнул, как бы говоря «я не знаю, что происходит, но со мной ты в безопасности». Майкл едва видел его за пеленой подступающих слез.
– Знаю-знаю, дружок. – Лицо Эда сияло белым пятном в темноте, как лист бумаги на черном бархате.
– Мы… мы поможем ей?
– Майк…
Сверкнула молния, очертив светом правую часть лица Эда. Слезы хлынули из глаз Майкла, и мрак вокруг поплыл кругами, острые плечики затряслись.
– Эй… – Эд присел, и их лица оказались на одном уровне. – Человечек, не плачь, я не дам тебя в обиду. Хочешь, поспим в моей комнате?
Майкл очень хотел, но боялся, что отец узнает и накажет, что Эд узнает и будет ругаться, если он испачкает его кровать.
– У меня мокро, – сказал он так, как говорил год, а то и два назад, – плохо выговаривая слова.
Эд обнял его и приказал идти в ванную. Майкл поплелся в спальню брата, растирая дрожащими руками глаза, и сделал все так, как он просил.
В чрезмерно большой, но чистой пижаме Эда забрался в кровать, где прильнул щекой к приятно холодной подушке, где одеяло было теплее, а простыни свежее, где окна защищали от дождя и грома – та же планировка, та же мебель, но все казалось приветливым и возможным. Здесь, в этих четырех стенах, все было так, как и должно быть. Как дома.
3
Бессмыслица. Хаос. Полнейшее непонимание.
Майкл бултыхался в пелене лихорадочного бреда, вагонетка которого неслась прямиком в ад. Какое-то время он еще собирал себя в охапку: причесывался пятерней, натягивал свежую одежду, размазывал чем придется краски и отправлялся на занятия в академию, разрешения на которые выбивал у отца раболепным унижением и покорностью несколько месяцев.
Отец считал Майкла «не от мира сего», что на его языке означало беспросветное сумасшествие, доказательством чего служило его желание стать художником, которые в итоге, как и все творческие личности, «тонут в шизанутости». И чтобы вытравить из Майкла бесполезную тягу к искусству, Джейсон стремился превратить его жизнь в схему без лишних ответвлений: обучение в Имперском колледже (программа по экономике и стратегии бизнеса), летние стажировки, должность за столом в совете директоров, брак с дочерью англичанина с богатой родословной – почетный и уважаемый член общества, недостаточно великий, чтобы занять отцовское место, но вынужденный выполнять одну главную задачу – не сесть в лужу. Правда, с этим Майкл справлялся с треском, кубарем скатываясь по ступенькам жизни. Он лез на стенку от цифр и скучных учебников – голова пухла от сухих знаний. Только в студии он обретал человеческий облик: деревянные мольберты, скрипучие этюдники, плотные холсты, потрепанные временем кисти и грушевидные, овальные и алмазные мастихины, тонкий льняной, едва уловимый запах масляных красок и едкий – разбавителя служили ему вполне осязаемым щитом, ненадолго, но все же отвлекая от удушающих мыслей, приглушая болезненные воспоминания о прошлом.
– Порядок? – спросил мистер Ларсон, опустив руку Майклу на плечо, да так резко, что тот едва не подскочил, но молча сглотнул испуг, чувствуя, что взгляд преподавателя устремлен не на него, а на холст. Прежний учитель, мистер Хайд, заметил бы его меланхолично-пьяное состояние, а вот Ларсона так поглотили тщеславные мысли о его месте в высоком искусстве, что он не обратил бы внимания, даже если бы Майкл отрезал себе ухо, а если бы и обратил, то посоветовал бы не заниматься членовредительским плагиатом.
– Не знаю, что с тобой, но продолжай в том же духе.
И без того тонкий рот Ларсона растянулся в улыбке так, что едва ли не исчез с лица. Наверняка он решил, что Майкл вдохновлялся картиной «Безумие» Мориса Утрилло: тот же зеленовато-серый мрак, недостижимые полосы света, черный силуэт, едва напоминающий человека, сидящий спиной к зрителям и жизни, – в какой-то степени так оно и было.
Рассвет каждый раз заставал Майкла в самом неприглядном виде – пьяным, грязным, бледным, измученным, до отупения отрешенным от реальности. Со временем Майкл посещал занятия все реже – просыпал, не услышав будильника, или, обессилевший после рвоты, дрожал в мучительной лихорадке на холодном кафеле. Тщетность. Пустошь. Бесконечный простор. Слишком большая свобода – тоже клетка. Раз за разом приходя в себя, он думал, а не остаться ли в кровати навечно – просто спать и, просыпаясь, снова закрывать глаза, до тех пор, пока они не перестанут открываться. С устрашающим упорством он изучал себя в зеркале в надежде найти какой-то говорящий изъян, непостижимую печаль, которые могли бы выдать его пагубные пристрастия миру, но ничего не находил, проводя в изнуряюще бесполезном самоистязании часы и дни.
Он кивнул бармену – уже знатно захмелел, голова раскалывалась – и попросил повторить. Одним резким движением опрокинул в себя стакан, и по телу разлилось уже не такое ощутимое, но все еще приятно-успокаивающее тепло. Иллюзия всемогущества: он способен на что угодно. Мир не настолько удручающий и враждебный, разве что совсем чуть-чуть. Кровь прилила к щекам, лицо вспыхнуло, руки тряслись. Он играл в прятки с зеркальными поверхностями барных шкафов, подсвечивающих его лицо искусственным цветным светом, в ужасе понимая где-то на задворках затуманенного сознания, если с отражением все же удавалось повстречаться, что оно ему не принадлежит.
Он рылся в памяти, подобной старому сундуку, выбрасывая из него гнилье и вытряхивая пыль, но в нем не убывало: как назывался клуб? как он в нем оказался? кто он? что он? Фред? Музыка безжалостно била по ушам, он не слышал собственных мыслей. И лишь аромат хвои даммарного лака тонкой ниточкой связывал его с тем человеком, каким он хотел быть, и миром, в который так отчаянно стремился вписаться. Когда-то он брал в руки кисть или мастихин, и мир вокруг окрашивало красками, как тушью, – лучистое великолепие. Ничего, кроме образов, которые постепенно возникали на бумаге и полотнах. Теперь же все рассыпалось на части: бумага рвалась под напором грифеля, сам грифель ломался, тени утрачивали объем, перспектива терялась. Он искренне верил, что лишился некогда многообещающего таланта, а значит, и занятия можно пропустить – что уж переживать, если ему оторвало конечности и голову на поле боя. На поле боя с собственной семьей.
– Как тебя зовут? – спросил девичий голос за плечом.
Майкл отозвался не сразу, сраженный цветочным запахом, слишком искусственным и сладким, – он так и представил этот безвкусный пошлый флакон в виде розы.
– Как тебя зовут?
Не без усилий он повернул голову – в шее хрустнуло, будто внутри у него, как у игрушечного солдатика, что-то надломилось.
– Это ты мне?
– Кому же еще?
На него смотрели два густо подведенных и блестящих карих глаза.
– Проститутка?
Она отпрянула, точно возмутилась, но скорее ради приличия – в глазах все так же пылали нотки симпатии.
– Ну прости. – Он схватил незнакомку за запястье, усадил на круглую сидушку рядом с собой и состроил давно выученную гримасу сожаления, помогающую создавать впечатление чуть ли не девственника, хотя от этого звания его отделяло как минимум несколько десятков перепихонов разной степени неудачности.
Он знал, что она не проститутка, у таких, как Шелли, быстро затухало желание жить, но намеренно обидел ее, как обижал и истязал каждую женщину, что проявляла к нему внимание, чтобы вынудить ее оставить его и в очередной раз убедиться в давно понятой истине – ни одной из них нельзя верить. Причина этого обманчивого убеждения крылась в его представлении о мире, где все женщины, встречающиеся ему на пути, вопреки всем трудностям и его несносности, должны помогать, жалеть, заботиться. Вселенная задолжала ему слишком много, отобрав женщину, от которой когда-то зависела его жизнь.
– Я тоже шлюха, – без веселья улыбнулся он, попытавшись прикрыть недостаток дружелюбия самоуничижительным цинизмом.
И почему, думал Майкл, этой бедной – никто из его окружения ни за что не натянул бы на себя эту безвкусную футболку и джинсы с дырками и пузырями на коленках, – но все же симпатичной девушке пришло в голову знакомиться с ним?
– Хочешь выпить? – спросил вдруг он.
– Нет. Я и так накидалась, иначе не подошла бы.
– Я тоже. Носа не чувствую…
Ее горящие глаза забегали по его карманам с таким нетерпеливым, страстным любопытством, что ему показалось, словно она запустила в них руки.
– Ты так и не сказал, как тебя зовут.
Фред говорил, древние люди верили в магическую связь человека с его именем. В шумерской мифологии Нергал, бог смерти, войны и разрушения, спустился в загробный мир и скрыл свое настоящее имя от Эрешкигаль, владычицы подземного царства, надеясь не поддаться ее чарам. Не зря он вспомнил об этом и, раз уж вспомнил, солгать будет правильным, даже необходимым…
– Фред.
– Фред? Очень приятно. А я…
– Nomina sunt odiosa [10].
После смерти Фреда Майкл с маниакальным упорством, граничащим с помешательством, вцепился в англо-латинский словарь. Сколько он себя помнил, Фред великолепно знал латынь – читал и говорил на давно умершем языке как на родном, и Майкл часто подшучивал над ним за претенциозную манеру давить на людей этим редким, на первый взгляд бесполезным знанием, а Фред лишь отвечал: «Учи латынь, в аду по-английски никто разговаривать не будет». Что ж, подумал Майкл, по крайней мере, он сможет спросить дорогу.
Уголки рта девушки неловко поднялись, лобик сморщился, даже в цветном, быстро меняющемся неоновом свете ее лицо выглядело невероятно живым, и Майкл еще острее почувствовал себя не очень удачным, сделанным наскоро манекеном.
– Чего?
– Говорю, давай без реальных имен.
– А, так ты любишь ролевые? Что ж, ладно… – Она постучала ноготками с облезшим лаком по столешнице. – Брижит.
– Как Бриджет Райли? [11] – Он как раз ощущал себя так, словно попал внутрь одной из ее картин: изогнутые геометрические линии, создающие иллюзию глубины и пространства.
– Нет, как Брижит Бардо [12]. – Она закинула ногу на ногу в той манере, в которой умеют только красивые девушки, и он окончательно понял – его пытаются соблазнить. – Ты здесь один?
– Да. У меня нет друзей. – Он осушил стакан. – А ты?
– Я с подругами. – Она кокетливо указала на столик у стены. Две девушки захихикали и помахали Майклу, когда он обернулся.
– На самом деле мы с ними поспорили на тридцатку, что у меня хватит смелости к тебе подойти.
– Почему ко мне?
Брижит пожала плечом.
– Ты здесь самый симпатичный.
Сказать что-то приятное, польстить ей… Поиск слов, составление предложений, – его учили этому в Лидс-холле, но надобность вытянуть из себя что-то вежливое повлекла за собой лишь тошноту.
– Значит, теперь ты стала богаче на тридцатку. Поздравляю.
– Хочешь, закажу тебе еще? – кивнула она заостренным подбородком на его пустой стакан.
– Нет.
– Чего же ты хочешь?
Он мягко покачал головой, пытаясь как на карнизе удержаться в состоянии мечтательной отрешенности, чтобы в нем не нашел себе обитель другой Майкл – предатель и трус.
– Ну же, скажи, – лукаво улыбнулась она, протянув к нему руку через столешницу. – Хоть буду знать, о чем думают красавчики.
Картинки в одночасье всплыли немыми, но ясными образами в сознании: он и Кэти гуляют по залитому солнцем пляжу, где их голые лодыжки омывает морская пена. Мир, где его отец врач или учитель, а мать любит их. Они живут в маленьком домике, обвитом плющом, в котором пахнет выпечкой и свежевыстиранным бельем, вдали от общества, где подбирают салфетки в тон к скатерти. Эти сцены, полные света и тепла, так живо заиграли в воображении, что он бы без зазрения совести скормил ей историю счастливой семьи – удобоваримую и легкодоступную для незнакомцев. Но голова у него раскалывалась. Он знал, что больше никогда не увидит ее снова, как и десяток ее предшественниц.