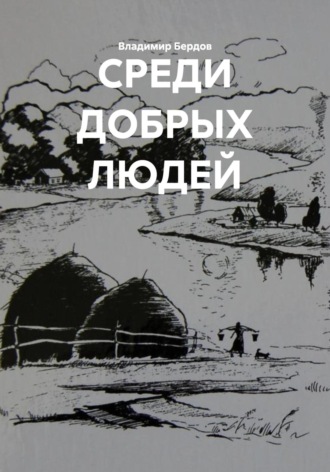
Полная версия
СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
– Я тут по телам пыл, немноко затершалса.
Как выяснилось в разговоре, ему было около шестидесяти, но выглядел он много старше. Наверно, его старила линялая фуфайка, подпоясанная ремнем, козья шапка и седеющая небритость на лице.
Развязывая залатанную котомку, он попросил поставить на печку-железянку с полведра воды:
– Отнако шипко нынще устал и ись охота.
Когда вода начала закипать, старик бросил в ведро пучок душистой травы. Затем достал начатый полукруг хлеба и сверток сала, чем немало удивил: из рассказов одноклассника Марика я знал, что татары сало не едят.
После нескольких кружек мутновато-коричневого напитка постоялец отогрелся, повеселел, и его покрывшаяся капельками пота бритая голова совсем не пугала. Допивать полуведерный «самовар» он подсел к затухающей, но все еще обдающей теплом железянке. Покряхтывая от удовольствия, старик завел то ли быль, то ли небылицу:
«Возле одной деревни была высокая гора, над которой с неба свисал пеньковый канат. Всякий раз, чтобы рассудить какой-то спор, деревенские мужики поднимались на гору. Кто был прав, тот до каната доставал, а виноватый достать не мог.
Так было до тех пор, пока в деревне не появился пришлый человек. Как-то он занял деньги у соседа и отперся. Привели виноватого и пострадавшего на гору справедливости и велели доставать до каната. Тот, кто давал деньги, поднял руку и сразу достал. Пришел черед виновному доставать. Он был хитрый и под предлогом, чтобы ловчее до каната достать руками, отдал свой костыль подержать тому, с кем судился. Протянул руки и тоже достал до каната. Народ удивился: как это оба правы?
А у виноватого в костыле было высверлено полое место, куда он засунул деньги, в займе каких отпирался. Так получилось, что с костылем он отдал деньги заемщику и потому дотянулся до каната.
Так он обманул всех, но с тех пор канат поднялся на небо, и больше его никто не видел. А на горе на пожертвования построили храм, и люди ходили туда за правдой».
Вместе с печкой «потухли» и сказки постояльца. Старик по-походному скрючился в углу на своей фуфайке и притих… Утром его на месте не оказалось. Он ушел затемно, чтобы с ишимскими бензовозами добраться до своей деревни. Пьянящий аромат заваренного разнотравья стойко держался в избе. И его нельзя было скрыть от матери, которая, уходя в ночное дежурство, всегда наказывала: «Незнакомцам не отворяйте!». Но в тот раз мы рассказали ей про доброго сказочника, и она нас не ругала.
Ближе к лету аптулинский киномеханик, приехавший в наш клуб за кинобанками, заскочил к нам и передал от старика гостинец: ученическую тетрадь и начатый сине-красный карандаш.
Имя этого походного человека я забыл, а сказка, которую он рассказывал, в памяти запечатлилась. Сам ли он ее придумал или вычитал где, когда в комсомольские годы работал избачом-книгоношей.
ПРИВЕТНЫЙ УГОЛОК
Приветный кротовский уголок, прозванный Пеньково, с одной стороны примыкал к реке Балахлей, а с севера отделялся от кладбища грунтовым большаком. Здесь располагались цеха промартелей и стояла известная аптека тети Лизы Андреевой. А чуть дальше в березовой роще – сельская больница.
Говорят, когда работала местная гидростанция, то неподалеку от нее было и пенькопроизводство. Об этом напоминают бесконечные копани да прозвище «Пеньково».
Сегодня конопля попала в немилость и в разряд криминогенного продукта, а до войны под ее посевы отводились значительные площади. В одном из домов, где мы с матерью квартировали, в межкомнатной стене было проделано отверстие. По детской наивности я думал, что оно служит для подглядывания, и иногда этим пользовался. Но позже мне объяснили, что через него пропускали крученую пеньку и зимними вечерами мужики вили веревки.
На окраине Пеньково тарахтел кирпичный заводик. Производство это было высокорентабельным, поскольку глину – основное сырье, добывали тут же. Казалось, грохот ленточных транспортеров и гул обжиговых печей не смолкали здесь ни днем ни ночью. Кирпичей производили порядком, но что-то мало было в селе домов кирпичной кладки. Когда строили школу, то кирпичи возили из татарской деревни Аптулы.
В холодную осеннюю пору, озябшие на рыбалке, мы бежали сюда погреться. А возвращаясь к своим удочкам, непременно прихватывали по несколько кирпичей, на которых жарили небогатый улов или нанизанные на прутики обабки из ближнего лесочка.
Но больше нас к пеньковской стороне притягивали старые тополя. По весне здесь собиралось молодежи больше, чем у сельского клуба. У веревочных качелей, встроенных между огромных деревьев, всегда было шумно и очередно. Хотя, главной притягательницей была лапта. Играли в основном взрослые и подростки. Лаптой увлекались и в других уголках села, но здесь было как-то престижней, хотя и не всякого принимали в команду. Когда брал в руки биту Ванька Хомич, собравшиеся на поляне замирали. Он редко промахивался и так запуливал самодельный губчатый мяч, что его долго приходилось искать. Быть «осоленным» его метким броском мало кто хотел. Особенно с визгом уворачивались девчонки. Но Ванька нарочно метил в женские прелести. До самых потемок ребятня резвилась у старых тополей, и родители знали, где их искать.
Когда беготня нам наскучивала, мы собирались в доме изобретательного Вовки Кондрюкова. Назвать домом их покосившуюся избушку под дерном, было трудно. На крыше Вовка прилаживал репродуктор, который, заглушая лай собак, горланил на всю окраину. Иногда он включал микрофон и через усилитель транслировал какую-нибудь шуточную информацию. Но это уже считалось хулиганством, и местный участковый с серьезными предупреждениями наведывался к доморощенному диктору. Для осуществления своих творческих идей Вовка часто обшаривал местные мехмастерские. Утащить с охраняемого объекта автомобильный аккумулятор или подшипники для колесянки ему ничего не стоило. А однажды укатил целое колесо, разбортовал его и вынутую камеру приспособил для плавания. Другой раз я был свидетелем, как он накидывал на автомобильную фару полу своей фуфайки и тяжелым предметом разбивал ее. Еле слышный хруст стекла и лампочка была в его руке.
Став постарше, Вовка остепенился и при напоминании эпизодов озорного детства с легкой усмешкой отшучивался. Имея всего лишь начальное образование, он знал радиотехнику на уровне хорошего инженера. После армии я работал на радио, и, если случались в моих магнитофонах поломки, он охотно меня выручал. Зная, что лучше его в этом деле никто не разбирается, к нему несли все – от простой настенной «тарелки» до телевизора. Иногда, его просили покопаться в мототехнике, Кондрюков и в этом разбирался, но всегда отсылал к другому умельцу, Петьке Чуракову, который в этих вопросах кумекал больше.
Деревня всегда жила с юмором в ладу, и прозвища здесь давали меткие, словно в паспорт вписывали. Кондрюков непременно был Кондратом, Чураков – Чурой, бабушка Шутова – Шутихой, а Колесова – Колесихой. Можно бесконечно называть фамилии и имена – прозвища сельчан, которые в большинстве своем шуточно – безобидные. Но и к ним еще прилаживалось место проживания.
В километрах двух от пеньковской окраины Балахлей размывался вширь, излюбленное место рыбалки – Красный омут. Я не помню, чтобы тут купались. Напуганные таинственными страшилками взрослых и длиннохвостыми ондатрами, которые могли кое-что откусить, ребятишки не осмеливались входить в воду. Когда рыбалка удочками не удавалась, случалось и хулиганили: вытрясали поставленные неподалеку местными промысловиками мордушки (плетеные из ивняка рыболовные снасти).
Как-то в очередном рейде по рыболовным садкам школьный трудовик Алексей Павлович заприметил на одной из запруд копошащихся и громко переговаривающихся ребятишек. Затаился в кустах и, дождавшись, пока они наполнят карманы и насуют в запазухи трепыхающихся окуней и чебаков, Медведем подкрался к ним. Старший подстрекатель Вовка Брызгалов успел улизнуть, а троицу приятелей, словно альпинистов, в одной связке повел в село. Заплаканных и чумазых, с вещдоками под рубахами, доставил их к сельсовету на их счастье. Время было страдное, и в конторе никого не оказалось. Сбежавшиеся бабы «облаяли» Алексея и освободили пленников. Мальчишки были из безотцовских семей, и за них по-мужицки некому было заступиться. А дома от матерей они получили еще и по подзатыльнику.
Вовка Кондрюков в этой акции не участвовал. У него хватало своих, более серьезных, приключений. После того, как он подвел провода от комбайнового магнета к дверной ручке класса, и вредная историчка попалась на контакт, Вовку из школы турнули.
КУДА ВПАДАЕТ БАЛАХЛЕЙ…
Неширока, неглубока
У моей родины река.
Прозрачны были омута –
Теперь уже вода не та…
Прошли десятилетия, и вот –
Вместо прекрасной речки – брод…
Иртыш, Обь, Вагай – все это знакомые и знаменитые сибирские реки. О них сложены песни, они обозначены в школьных атласах и на больших лоцманских картах, которые я впервые увидел в рубке парохода «Электрик», на котором проходил плавпрактику.
Нашей сельской речке Балахлей с известностью повезло меньше, и протяженностью-то она всего несколько десятков километров.
В детстве я наивно думал, что речка, петляя и поворачивая, считала нужным пройти вдоль села, поближе к людям. Став старше, понял: не вода к людям, а люди селились и обустраивались вблизи рек.
Во времена громкоговорителей-тарелок речка для сельской ребятни была местом развлечений и отдыха. Здесь мы рыбачили, жгли костры, водили сюда поить лошадей и больше всего любили бултыхаться, проныривая сквозь заросли лилий.
Мать купаться мне долго не разрешала. Ее излюбленная фраза: «Утонешь – домой не приходи!» – настораживала. Но искушение было сильнее, и через некоторое время я уже спокойно плавал вдоль берега «по-собачьи».
Мои сверстники смело переплывали самые широкие места, а я все еще барахтался с малышней на мелководье. Но все равно река радовала, и это маленькое удовольствие было кусочком счастья.
Река всегда притягивала: шли с грибной вылазки – обязательно припадали к студеным прибрежным родникам утолить жажду, если рыбачили, то даже самый неудачливый был с небольшим уловом.
Субботними летними вечерами артель мужиков протягивала вдоль реки бредень и вытаскивала по несколько ведер разносортной рыбы. С котелками и кастрюльками рыбаков сопровождали бабы и ребятишки – им тоже перепадало от доброго улова. А на берегу уже разгорался костер, поджидая закладку для ухи.
Зимой на реке тоже свои прелести: расчищался лед, и затевался любимый хоккей. Коньки на валенках, ивовая частоколина, выдернутая в соседском дворе, – вот и все снаряжение. Забыв про уроки, сражались дотемна.
В весеннюю распутицу и вовсе притягательная картина: огромные льдины-тараны ползут по разбухшей реке, испытывая на прочность хлипкие деревенские мостики, слизывают изгороди и баньки на берегу.
Для рыбаков новая утеха – ловить рыбу огромными сачками. Это нехитрое приспособление готовится еще с зимы: вяжется сетка-карман и крепится к трехметровому шесту.
Случалось, вода подступала к окнам нашей старенькой, как ее называли, «зеленой школы». Сносило все переправы, и мы, заречные ребятишки, недели две не ходили на занятия, пока вода не отступала. Так речка дарила нам еще одни каникулы.
Ученые подсчитали, что у нас в стране более ста тысяч рек и речек. Но их с каждым годом все меньше и меньше. Вот и речка моего детства совсем обмелела. Ее знаменитые рыбные омута с устрашающими названиями «Черный» и «Красный» превратились в лужицы-блюдца. Во многих местах Балахлей можно перейти вброд, и весной она не такая уж грозная и шумная, как в былые годы. Сегодня новый железобетонный мост, словно когтями, обхватил ее берега.
Стихийные запруды и свалки отходов животноводства заглушили некогда подпитывавшие ее роднички. Попробуйте здесь искупаться, и на долгую память вам обеспечены кожные процедуры.
Речка моего детства… Мне посчастливилось видеть ее большой и сильной. Но она приносила не только радость. Как и всякая стихия, река не прощала беспечности и пренебрежительного к ней отношения. Я помню, как ушли на дно, катаясь по неокрепшему осеннему льду, трое моих одноклассников, как провалился вместе с трактором под лед и утонул молодой тракторист Генка Аверьянов. И таких трагических случаев было много…
В судьбе каждого человека есть своя река. Можно посадить лес, выстроить плотину, но живой организм реки восстановить почти невозможно. Такова судьба и Балахлея. И только остается поклониться ей за те годы памятного деревенского детства и сказать: «Спасибо, речка, и прости нас, людей!»
БАСАРГА
Наш домик стоял на веселом пригорке. Спустишься по траве-конотопке вниз, и ты у реки с чудным названием Балахлей. Тут же, у пригорка, словно разглаживая длинные водоросли, впадала маленькая речушка с не менее экзотическим названием Басарга, которую можно было преодолеть одним прыжком.
На вид она вроде и тихая, но по весне, напитавшись талыми водами, раздавалась вширь и угрожала огородам многих сельчан. Но главная тревога в половодье все же исходила от Балахлея.
Однажды обе речки будто сговорились, и случился такой мощный разлив, что мы, междуреченские, с неделю не ходили в школу. От водной стихии тогда пострадали большие и маленькие мостики. Выручал местный рыбак дядя Митя Москвин. Он снаряжал свою просмоленную лодку и наиболее отчаянных переправлял в магазин за продуктами.
Иногда он выполнял просьбы учителей и привозил нам домашние задания. Но до них ли было, если в лесу пошел березовый сок, а взрослые, просачивая наметками мутную воду, таскали щук, чебаков, окуней. Увязывались за ними и мы, чтобы на кострищах Каролишки приобщиться к артельной ухе.
Не особо-то горевали по школе междуреченцы Ванька Китаев, Пашка Пегов, Митька Кармацкий, Ванька Бердов. Правда, был в этой компании еще Иван, и тоже Бердов. Чтобы их не путать, одного прозвали по имени матери: Ванька Дунин. В учебе он преуспевал и статус отличника не позволял ему расслабляться.
Эти парни были постарше меня и моих приятелей Кольки Демьяновича, Сашки Упорова, Вовки и Тольки Кармацких лет на пять-семь и уже познали курево, самогон и азарт картежной игры.
Затейником и заводилой у них в этом деле был Ванька Китаев. Анекдотов и забавных приключений он знал великое множество да к тому же обладал природным даром рассказчика. Бывало, соберутся где-нибудь на задворках покартежничать – и Китаев начинает травить. И какая уж тут игра – побросав карты, парни со смеху катаются по траве. А он лежит, опершись на руку, и невозмутимо поковыривает былинкой в зубах. Когда публика разряжалась, Ванька, чуть улыбнувшись, продолжал: «Ну что, продри..?! – дальше будет покруче». И, оглядевшись, нет ли поблизости «мелюзги», вроде нас, выдавал анекдот с перчинкой.
Реки моего детства Балахлей и маленькая Басарга для меня всегда были загадочными с их нерусскими названиями, хотя, судя по архивным документам, одними из первых сюда пришли русичи, в том числе и мои предки Бердовы.
В годы моего детства сельские улицы еще не имели наименований и прозвище к этой окраине Кротово – как ни странно, прижилось не от большой реки, а от Басарги.
«Ты где живешь? – За Басаргой».
«Куда по грибы пойдем? – За Басаргу».
Или: «За Басаргой у Каролишки все перепахали, и скотину негде пасти».
Человек уже побывал в космосе, а у нас все еще не было электричества. И печки некоторые экономные хозяйки растапливали соседскими угольками. Занять кусок мыла, щепотку соли или сахара, перехватить «до завтрева» хлеба было в порядке вещей, и ни кем из соседей не осуждалось.
Вместо большака шла торная дорога, покрытая густой и теплой пылью. Машины по ней ходили крайне редко, но когда вечером прогоняли с пастбища скотину, облако чернозема долго висело над дорогой, словно не стадо прошло, а колонна танков.
Но, несмотря на отсутствие цивилизации, жить в междуречье мне нравилось. Здесь практически все знали друг друга поименно, а двери домов закрывались на замок только в случае дальнего отъезда. Собаки и те принюхались и не гавкали на ближних соседей, и только петухи никак не могли сговориться и «сверить» часы.
НА СЕЛЬСКОМ ПОГОСТЕ
Сколько их на сельском погосте:
Милых, добрых и сердцу родных.
Как подумаю – не к кому ехать мне в гости,
Только вспомнить осталось о них, о живых…
В детстве сюда мы бегали в малинники и, когда наступали густые сумерки, испытывая себя на храбрость, проскакивали, озираясь, мимо крестов и могилок из конца в конец. С возрастом особое отношение к этому грустному поселению. Как в городе, раньше здесь не было заведено в родительский день убирать могилки. И все зарастало, заваливалось естественным образом. Но хорошие традиции и правила со временем пришли, и на сельском кладбище – ухоженные металлические оградки, кое-где добротные памятники и надгробья.
В каждый свой приезд в село я непременно иду поклониться тем, кого знал и помнил с детства.
Вот на веселой солнечной стороне последнее жилище совхозного столяра, участника трех войн, Ивана Захаровича Быкова. Это о нем я написал когда-то заметку в районную газету и этим стартовал в журналистику. А вот балагур и вечный гуртовой Илья Аксенов. В Кургане – так называлась в простонародье одна из окраин Кротово – мы жили по соседству. По субботам тетка Наталья заводила ему пятилитровую кастрюлю блинов, и он, с топленым салом да под самогоночку, расправлялся с выпечкой. Но и в работе дяде Илье равных не было. Летом его гурты нагуливали самые высокие привесы в совхозе. Участник войны, раненный в одном из боев, он мало прожил.
Как не вспомнить мне дядю Ильюху?!
Был такой, да его ли вина,
Что его, молодого, по брюху
Полоснула осколком война…
Долго стою у могилки Ивана Яковлевича Симонова. Мне кажется, он всегда ходил в суконной толстовке, в сапогах и фуражке-шестиклинке. Толстый мясистый нос, округлившийся животик придавали ему добродушный вид.
– Робятишки, вы много не пейте, но попробовать надо, а то в какой компании споят вас и будут смеяться, – поучал он нас иногда за послебанным столом.
Он наливал нам с Петькой по одной-единственной рюмочке-малютке светло-серой бражки, и мы чувствовали себя заправскими мужиками. Опрокинув два-три стаканчика, дед Иван пускался в житейские размышления и воспоминания. И мы, чтобы не обидеть старика, в который раз слушали его были и небылицы.
А вот малоприметный крестик на могиле продавщицы тети Вари… Она всех знала, и все сельчане знали ее доброту. Сколько раз она выручала и мою мать, когда не дотягивали до получки. Был грешок: мы с соседом Васькой воровали на совхозном птичнике яйца и сдавали в магазин на конфеты и на кино. Она, наверно, догадывалась, но жалела нас. От родителей нам попадало: случалось, в магазин уходили и пасхальные запасы.
На въезде в село, с большака, хорошо виден памятник Лене Чухину. В детстве мы с ним знались и играли вместе. Его дед Илья прожил более сотни лет. А Леонид погиб в 1968 году, когда служил срочную на атомной подводной лодке «Комсомолец».
Его отец шофер балагур Николай Ильич, как-то сник, поседел. Ему хватило еще силы поставить чисто символический памятник сыну…
Нельзя не поклониться тетке Прасковье Бердовой, Паруне, как ласково в детстве мы ее называли. Не было такого случая, чтобы она не пригрела, не покормила гостя или простого странника. Тетка Прасковья всегда была окружена ребятней. Потерявшая мужа, она все силы во время войны отдавала колхозу и своим детям. Даже в годы поголовного атеизма старая женщина не расставалась с религией: ездила на богослужение за сотню километров, в Ишимский храм, читала церковные книги. В ее доме я не видел фотографий, кроме мужнева военного портрета на стене. В один из приездов я решил сфотографировать старушку. Она долго и категорически отказывалась позировать, но какое было моё удивление, когда на проявленной пленке ее не оказалось. Мистика какая-то!..
Вечереет. На старом сельском кладбище, заросшем малинником и необхватным березняком, тихо. И только изредка проходящие по большаку машины и дальний лай собак напоминают о жизни. В тревожном одиночестве останавливаюсь у могилки моей первой учительницы Марии Петровны Белан. Она и до шестидесяти не дотянула: коварная болезнь скорехонько уложила на вечный покой. Чуть в стороне свежая могилка ее дочери Татьяны. Такой же грустный диагноз и те же отпущенные злодейкой-судьбой пятьдесят семь…
Моей матери, Серафимы Ильиничны, не стало на исходе двадцатого века. Рожденная и прожившая до ухода на пенсию в сельской глубинке, думала ли она, что доведется доживать свой век в городской «высотке»? Ее могилка вдали от родных мест – на «приветливом» бугорке Морозовского кладбища. Здесь, под карканье кружащего воронья и родилась эта строфа:
Где-то на нивах хлеба колосятся,
Где-то гармошка встречает рассвет.
Люди уходят, люди родятся,
Только тебя на земле уже нет…
В нескольких десятках метров от могилки матери, покоится очень близкий мне человек Михаил Дубровский. Иваныч был прекрасным слесарем с инженерным мышлением и конструкторской смекалкой. Как всякий одаренный человек, он прожил до обидного мало и даже не дотянул до своего 70-летия. А так хотелось сказать на этом юбилее:
«С виду вроде он парень неброский:
Ростом мал, но как тот золотник,
Дорог нам Михаил Дубровский –
Говорю вам, друзья, напрямик!..»
ЗАТМЕНИЕ 1959 ГОДА
На одном из уроков учительница предупредила:
– Ребята, завтра ожидается солнечное затмение, попросите старших закоптить маленькие стеклышки: будем наблюдать природное явление.
Набить стекла и закоптить – мы и сами мастаки! Это девчонки ничего не умеют…
Надрал с поленьев бересты, поджег ее на огороде и, когда пошел густой черный дым, безо всякого труда обкоптил несколько осколков.
Когда я спросил у матери, что такое затмение, она только проворчала за спички, за копоть на огороде. Соседская баба Валя была посвящена больше. По утверждению сильно набожной старушки выходило, что, когда Илья Пророк катит по небу на своей колеснице, он и закрывает солнце.
В школу каждый принес не по одному стеклу. Пока их доставали из портфелей, поободрали копоть, перемазались сажей и, глядя друг на друга, смеялись. Помню, Вовка Гребенщиков принес закопченное круглое зеркальце.
– Ну как ты будешь через него смотреть на солнце, – огорчила мальчишку Мария Петровна.
Второгодник Ванька Мельников отчудил не меньше: он принес выставленное из форточки стекло и на перемене за школьным двором устроил коптильню. Стекло не выдержало резкого нагрева и разошлось мелкими трещинами. Зная крутой характер своей мамаши, он сильно огорчился, а мы подумали: «Будет теперь у Ваньки затмение в глазах от ее подзатыльников».
Затмение в первую смену не случилось, и мы, сложив поистертые осколки, огорченные разошлись по домам.
Не успел я отмыться от копоти и пообедать, как в окнах что-то затемнело, закачало деревья и под крыльцом жалобно заскулил, заскребся дворовый пес Фунтик. Забегали по двору куры, а петух, прикрыв глаза, беззвучно открывал клюв. Забеспокоились овцы и поросенок, который по природе своей не видит неба. Тревожно стало и нам с соседом Толькой Кармацким, который прибежал к нам. Мы прильнули к закопченным стеклам. Все это длилось несколько минут. А потом освобожденное солнце начало припекать сильнее и сильнее…
В классе седьмом о затмениях я узнал больше. Физик Вахненко растолковал нам, что затмение – это когда луна закрывает часть или полностью солнце. Что одни затмения бывают раз в 300 лет, а чуть послабее почаще. Затмение, которое мы наблюдали в 1959 году, он охарактеризовал, как слабое. А еще бывают лунные затмения?
Учительница географии Татьяна Степановна Вощикова привела пример другого природного явления, которое затмевает большие земные площади на несколько дней. В 1883 году вулкан Каракатау на Яве уничтожил 300 деревень, 36 тысяч человек погибло. Его рев был слышен за 4800 километров, а густой смог с пеплом на несколько суток закрыл солнце. Некоторые обломки вулканической породы взметнулись на 55 километров вверх. Взрывная волна 7 (!) раз облетела экватор. А шестикилометровый в диаметре кратер, заполненный водой, вызвал реакцию и все сметающую на своем пути сорокаметровую волну. Она шла со скоростью 1100 километров в час.
Июньское затмение 2008 года напомнило мне далекий 1959 год. Только сейчас не нужно коптить стекла: магазины заполнены светозащитными очками различной плотности.
СЕЛЬСКАЯ ТРАГЕДИЯ
Катались вчетвером: Вовка Фомин, Юрка Грабовский, Мишка Киселев и Витька Буйнов. Еще с вечера соседи-приятели сговорились приготовить уроки, чтобы завтра до занятий во вторую смену опробовать перволедок. Речка только-только покрылась льдом, который в некоторых местах поскрипывал и волнообразно прогибался. Кататься было здорово. Снег еще не успел закрепиться на зеркальной поверхности, и, чуть оттолкнувшись на коньках, можно было ускользить далеко.

