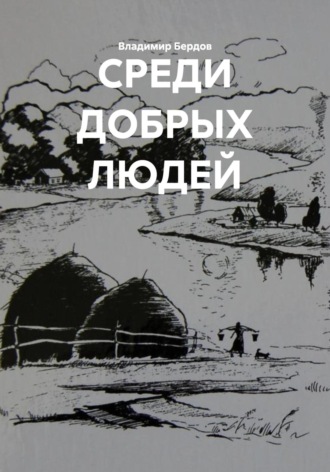
Полная версия
СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮДЕЙ
ДЯДЯ ВАНЯ
Его отец в молодости на сельских сходках до тридцати крепких сибирских мужиков из круга выбарывал – больше тягаться с Никифором желающих не было. В потешках перебрасывал через амбар пудовку. Когда ему было уже за шестьдесят, в одиночку ставил на телегу десятипудовую наковальню, и снять ее обратно на землю смельчаков не находилось. Сын Иван выдался в него. Хотя, говорят, отец был проворней.
В последней войне старик участие не принимал: ему с лихвой досталось в империалистическую и гражданскую, да и возраст был далеко не призывной. Зато Иван с первых дней впрягся в солдатскую лямку…
Первый Белорусский фронт, девятая гвардейская дивизия – здесь он начал армейскую биографию на курсах младших офицеров. Солдатскими «академиями» называли их тогда. Но и в годичной «академии» долго поучиться не пришлось – через шесть месяцев с сержантскими нашивками Силина выпустили – и сразу же на фронт…
На Брянщине, у одного из сел, их подразделение бросили в пекло – против немецких танков. Сначала местность прошили вражеские бомбардировщики. Вокруг все горело: земля, воздух, деревья, но пылала, как миленькая, и хваленая фашистская техника. Словно игрушку, ворочал Иван полутонную пушку, подкармливая ее снарядами. Но враг напирал в многократном превосходстве. Расстреляв все до последнего снаряда, вынули из орудий замки и отступили…
Много еще за четыре военных года пришлось Ивану Никифоровичу наступать и отступать на исходные позиции. Таскал вместо лошадок пушки в артиллерии, исползал десятки километров в пехоте, пока не попал в «элиту».
…Полковая разведка – одна из самых трудных и опасных профессий на войне. Подбирали сюда ребят крепких, выносливых, умеющих хорошо владеть не только личным оружием. Иван подходил по всем статьям, и даже фамилия соответствовала содержанию.
В представлении многих, в том числе и участников войны, разведслужба – это веселое романтическое житье, где дополнительный паек и всегда заправленные солдатские фляжки. Но это совсем не так. Разведчики, ушедшие за «языком», – это минеры, которым предстоит не только выловить опасный груз, но и доставить его в полной сохранности.
Трое суток в осенней слякоти бойцы разведгруппы, в числе которых находился и Иван, подбирались к расположению противника. Моросил дождь, когда они по кошачьи бесшумно подкрались к часовому, прохаживающемуся вдоль бруствера. В стремительном рывке Иван Никифорович накинул на противника мешок. В какое-то мгновение немец опешил, но, когда опомнился, легко сбросил с себя здоровяка Силина. Все четверо подоспевших разведчиков навалились на добычу, но он не унимался и, что-то мыча, словно бык, тащил их.
– Силен гад, видать, на минное поле прет – режьте ему пахи, ослабляйте, – приказал старший…
Тяжело достался этот «язык» группе. К тому же, в схватке у Ивана с «мясом» оторвалась от ремня портупея с пистолетом. Пришлось возвращаться и, рискуя жизнью, искать ее.
…Лето 1944 года. Группе разведчиков приказано пройти на нейтральную полосу, выручить экипаж подбитого танка. Начало темнеть, когда восемь тертых многими рискованными походами бойцов вышли на задание. До указанного места добрались быстро. Вот она, недвижимая посреди непаханого поля, родная тридцатичетверка. До танка рукой подать, какие-то метры остались, но что это… Совсем близко предупреждающе прострекотал вражеский автомат: фашисты, видно, тоже послали разведку с целью захватить наших танкистов в плен. Решение старшего пришло быстро: нужно разделиться на две группы и отрезать врага от экипажа танка, пока не пришло подкрепление противника. Перестрелка была короткой – маневр удался. Спасли не только раненых танкистов, но и захватили одного пленного. За эту удачную операцию Ивана Никифоровича и его товарищей представили к высоким наградам.
Их у дяди Вани к концу войны было порядком: домой вернулся с орденами Красной Звезды, Отечественной войны, Красного Знамени, медалью «За отвагу». Человек он был скромный и надевал их редко. Вот и в тот раз, когда историк Александр Степанович Барабанщиков, в числе других фронтовиков, пригласил его в гости на 9 мая, он пришел не при параде.
За разговорами-воспоминаниями, песнями засиделись допоздна. Гости хорошо разогрелись, повеселели, начали шутить, и хозяин после очередного тоста за Победу обратился к Силину:
– Иван Никифорович, удиви гостей, покажи «фирменное»! Не многим доводилось видеть твой номер.
Он согласно кивнул. Хозяйка Мария Степановна предусмотрительно убрала посуду. Люди расступились, а Никифорыч деловито обошел стол и, выбрав точку захвата, присел, упершись грудью в ножку стола и, словно тисками, ухватил столешницу зубами. Его крупное лицо от напряжения заметно побагровело, и казалось, что он вот-вот перекусит кромку стола. Со скрипом, хрустом, покряхтыванием Силин медленно поднялся с этим невообразимым грузом в зубах, словно это был карандаш, а не стол внушительных размеров, изготовленный по старинке. К общему восторгу присутствующих дядя Ваня прошел с ним по комнате и плавно опустил на место. Потрясенные увиденным, гости чуть протрезвели и расходились с оживленным ропотом. Не исключено, что некоторые из них, придя домой, попытались повторить подобное.
На селе знали еще об одном, не менее зрелищном, представлении: дядя Ваня обматывал руку полотенцем, брал большой гвоздь и с силой пробивал половицу.
БАЯКИ
Классе в седьмом меня сильно раскачала на качели красивая и озорная девчонка из параллельного класса, к которой я был неравнодушен. Тогда я чуть не закричал: «Мама!» А она, увидев мои наполненные страхом глаза, еще больше забавлялась, оглашая прибрежную поляну белозубым хохотом. Я вспомнил этот эпизод далекого детства, наблюдая из окна квартиры за работой высотников-маляров, красивших макушку восьмидесятиметровой заводской трубы. Как и пятьдесят с лишним лет назад, я подумал: не быть мне летчиком и не покорять высоты.
В детстве я вроде бы постоянно находился возле лошадей, но боялся скакать на вершной, как это делали мои сверстники. Однажды старый мерин, на которого я все же уселся, заспешил на водопой и понес меня. У кромки берега он остановился, как вкопанный, и я по инерции через его голову скатился прямо в воду, насмешив мальчишек.
Мне доставалось, как шолоховскому деду Щукарю: года в четыре бодал соседский теленок, позднее моя спина долго помнила козлиные рога, а ноги неоднократно были щипаны гусями. Долгое время наводила страх на деревенских большая свинья. После опороса у нее отняли детенышей, и она озверело гонялась за взрослыми и ребятишками. Собак я тоже старался обходить стороной, но и ими был мечен. Летом друзья-приятели лихо по-обезьяньи брали березовые высоты, разоряли вороньи гнезда и, горланя, лихо раскачивались на ветках. Я же был внизу в роли подстраховщика…
С годами осознаешь: что там какие-то баяки детства, когда так непредсказуемо наше будущее. Боюсь вместо утреннего лугового тумана увидеть непробиваемую пелену смога, тревожно от того, что в лесах и парках все меньше птиц и даже «надоедливые» воробьи куда-то попрятались. Боюсь, что пророческой может стать сказка Корнея Чуковского, и жидконогая козявочка будет держать в страхе людей. Не пора ли энтузиастам-экологам, службе природоохраны и всем нам задуматься над пополнением биоресурсов и, как в пятидесятые годы китайцы, завозить птиц из других регионов?!
Кстати, от китайцев зависит судьба Иртыша. Там зарождается великая река, но, пройдя тысячи водопотребителей, она теряет силу и приходит к границам Омской области уже усталой и загрязненной. А несколько лет назад вообще появилась реальная угроза обмеления реки. Тогда наши казахские соседи планировали удлинить Карагандинский канал, намереваясь перебросить часть иртышской воды на пополнение умирающего Аральского моря. В советское время кремлевские «головоломы» тоже чудили с переброской сибирских рек.
Московский писатель Тихонов, с которым я познакомился в армии, писал, что до войны бывал в наших местах и имел удовольствие любоваться чистыми водами Иртыша. Сегодня все это безвозвратно потеряно.
Человек, вооруженный современной компьютерной техникой, способен управлять наследственностью, почти полностью подчинил себе природу, но бережно относиться к ней так и не научился.
МЕДНЫЙ КОЛОКОЛЬЧИК
Через много лет, в один из приездов в родные края, заглянул первым делом к своей бывшей учительнице. Как выяснилось в разговоре, Мария Петровна Белан читала мои газетные публикации и одобрительно относилась к моему творчеству. И все же она не переставала удивляться, что я стал журналистом, что много езжу по области, встречаюсь с известными людьми и не забываю малую родину.
Сидя на верандочке ее старенького домика, мы перебирали групповые фотографии, вспоминали школьную жизнь, бывших учеников, которых судьба разбросала по необъятной стране. В былые годы до семисот человек насчитывалось в нашей десятилетке. Из ближних деревень, словно ручейки к реке, стекались сюда за знаниями ребятишки. В ту встречу Мария Петровна пожаловалась: «Нынче-то в школе и сотни учеников не наберется: поразъехались люди из села – молодежи совсем мало. Бывшие двоечники в совхозе и остались, вот они нас и «кормят», – проиронизировала она. И ласково тронув меня за плечо, добавила: «А ты ведь тоже неважно учился и писал в тетрадках по диагонали. Ох, и намучилась я с тобой, пока выправила!»
Учился я, действительно, слабо, и она, подкартавливая букву «р» иногда властно указывала на меня: «Останешься после уроков!» И это было самое большое наказание для мальчишки. Как же, побросав сумки и портфели, все будут играть, а ты сиди и зубри. Тогда казалось, что она была слишком несправедлива ко мне.
Сколько помню, Мария Петровна носила один-единственный серый костюм, из рукава которого высовывался накрахмаленный белоснежный носовой платок. Когда она его доставала, к нашему удивлению, он выпархивал, словно голубь.
Позднее я узнал, что зарплата у моей учительницы была невелика и она с утра до вечера ее отрабатывала – подтягивала отстающих, вела какие-то дополнительные кружки, готовила и наряжала вместе с учениками класс к праздникам, выводила нас на экскурсии вдоль реки, и даже в каких-то театральных постановках мы участвовали. А еще нужно было проверить тетради с нашими каракулями. За ее плечами был всего лишь трехгодичный учительский институт, но она умела «дотягивать» отстающих, и все ее ученики переходили из класса в класс.
Жизнь моей учительницы тоже была не простой: домашнее хозяйство, муж фронтовик-инвалид, больной сын. Неподдающийся никакому обучению, Сашка целыми днями шатался по улицам! Сохранивший к семнадцати годам детскую наивность и восприятие мира, он был участником многих курьезных приключений. Когда заезжие шофера у столовой спрашивали его, как зовут, он, потупив глаза в землю, басовито отвечал:
– Сашкой…
– А сколько тебе лет?
– Надцать, – улыбался он, обнажив крепкие зубы.
Мы были его года на три младше. По-мужицки крепко сложен, он уже брился, но всякий раз подчинялся нам во всех играх и затеях.
Дочка Танюшка была полная противоположность: училась она на «отлично» и во многих школьных делах помогала маме.
…В поездках по редакционным заданиям приходилось много писать «на ходу» – совсем потерял почерк. Как-то при встрече разговорились, и я пожаловался Марии Петровне. Она посоветовала купить пару прописей для первоклассников и исписать их.
За этим необычным занятием мне невольно вспомнилась старая школа, медный колокольчик, зовущий на урок, натопленные круглые печи и скрип перьев в классной тишине. «Скелеты», «Звездочки», «Лягушки» – кто их сегодня знает? Шариковых ручек не было, а с перьями некоторые школьные умельцы экспериментировали: чтобы часто не нырять в чернильницу, прилаживали к ним пружинки, какие-то проволочки, и кляксами тетради были обеспечены. Перья коллекционировали, их обменивали и, наконец, ими играли. И это была своеобразная школьная «валюта». Особенно в этом деле преуспевал переросток Ванька Мельников. Позднее особым предметом роскоши и гордости счастливчиков стали только что появившиеся авторучки.
За кляксы, за неудовлетворительные оценки, за плохое поведение многим доставалось в школе и дома. Школу пятидесятых педагоги умели держать в строгости.
Мне по-мальчишески «повезло»: мать была неграмотна и в дневник заглядывала только для порядка. А поэтому не приходилось вымарывать двойки и единицы. Хотя иногда они были внушительных размеров, словно на демонстрационных плакатах.
Где-то в классе четвертом мое положение с матерью выравнялось: в стране объявили кампанию по ликвидации безграмотности, и мою родительницу в числе немногих принудили к учебе. И тут уже Мария Петровна совсем приблизилась к нашей семье. Ей дали ликбезовскую педагогическую нагрузку, и она по вечерам два раза в неделю наведывалась к нам домой.
Конечно, без иронии нельзя было смотреть на это обучение. Придя с работы, большую часть «уроков» мать управлялась со скотиной, хлопотала на кухне, а учительница, можно сказать, ходила за ней по пятам и что-то рассказывала. Иногда устраивалось чаепитие, и они по-бабьи обсуждали семейные и внутрисельские проблемы.
В молодые годы учиться матери не пришлось: ее «университеты» были за прялкой, да работа в большом родительском хозяйстве. Но и ликбез мало что давал – так, очередная кампанейщина. Свою тетрадку со смешными закорючками, выведенными прослюнявленным химическим карандашом, она, словно разведчица, прятала в тайник. Но мы как-то находили ее, разглядывали и смеялись. Больше трех ликбезовских месяцев ни ученица, ни учительница не выдержали: мать научилась писать семь букв своей фамилии и могла расписаться в документах.
В ликбезовские дни я старался не попадать Марии Петровне на глаза и уходил играть на улицу. Уроки, естественно, не были приготовлены, и на другой день с волнением наблюдал, как она открывала классный журнал и кончиком карандаша выискивала фамилии «жертв». В такие минуты я досадовал, что моя фамилия начинается на «Б» и в списке стоит одной из первых: «Ну почему мои предки делали какие-то странные берда, а не ремизки или челноки, от которых и пошли древние ткацкие фамилии?..»
Воспоминания, воспоминания, и в них непременно слышится звон медного колокольчика, который приглашает на урок в просторный класс «Зеленой школы».
ДЕД МОРОЗ
Этого добродушного старика в увеличительных очках на тесемке в селе знали многие. Кажется, он круглый год носил дождевик, и поэтому выглядел как-то забавно и таинственно. Его звали Афанасий Антонович Морозов.
По рассказам взрослых, дедушку Афоню в Первую мировую травили газами, он прошел через немецкий плен, был контужен, отчего у него поврежден лицевой нерв. И тем не менее, этот пожилой и много испытавший на своем веку человек всегда был полон обаяния и юмора.
Бывало, зайдет в сельмаг, с каждым поздоровается, малого за ушко нежно потреплет и, подходя к прилавку, прокартавит: «Милочка, мне бутылочку разговорчика заверни-ка!» Там, где появлялся старик Морозов, было всегда оживленно.
На селе его уважительно называли «Дед Мороз». Он без лишних вопросов мог отпустить «беспроцентный кредит» на бутылку или занять приличную сумму на более серьезную покупку. Не надеясь на память, Афанасий Антонович со стариковской скрупулезностью вел учет должников в своей карманной тетрадке. Позднее, когда его не станет, родные найдут в его маленьком хозяйственном ящичке, среди налоговых квитанций, и тетрадь с длинным списком должников.
Сухощавый и немощный с виду, он пользовался среди сельчан авторитетом. Бывало, никогда не пройдет мимо громкого бабьего спора или пьяной мужицкой мордобойки. Завидев его, женщины как-то стеснительно замолкали. Мужики вежливо поздороваются и проиронизируют: «Да мы так, шутейно, дядя Афоня!» Насколько я помню, дед Мороз был человек щедрой души: любил выпить в меру и угостить хорошего человека.
В один из своих визитов в сельмаг, будучи под легким хмельком, он забыл у пристенка свой заветный посошок. Моя мать случайно на него наткнулась и подобрала. Придя домой, велела отнести его хозяину. Я много раз видел эту лоснящуюся от времени незамысловатую палку, когда дед захаживал к нам, а «коня», как он ее называл, оставлял в сенях. Самого деда дома я не застал и передал костыль его жене, тете Кате. При первой же встрече Афанасий Антонович отблагодарил меня за находку двугривенным. Если учесть, что билет в кино стоил пятачок, а бутылка газировки – гривенник, то это были приличные деньги для десятилетнего парнишки. Отказываться от премии было бесполезно. Позднее, по стариковской забывчивости, он еще раз несколько пытался меня отблагодарить за находку, но я совестливо отговаривался.
На домике, где он жил, красовалась звездочка. Это означало, что здесь шефствуют школьники. Ребята любили заходить во двор дедушки Афанасия. Он всегда забавлял своими шутками, находил для них какое-нибудь незамысловатое дело и, как водится, без благодарности не отпускал.
Совсем не ради какой-то корысти хотелось помогать этому доброму старику. Вот и в этот раз …
Надумал Афанасий Антонович переложить в доме печь. За умеренную плату договорился с заезжими печниками, которые имели у сельчан репутацию не шибко пьющих.
Кирпичи и глина у деда были приготовлены, а вот с песочком вышла задержка. Выпросив у школьного завхоза Рощенко подводу, он предложил нам с приятелем составить ему компанию в поездке за песком. Вместе с его внуком Петькой нас было уже четверо.
– Ребята, в оплате я вас не обижу, – картавил под дорожную тряску дед.
Мы промолчали. У нас и в мыслях не было, чтобы рассчитывать на какую-то оплату. К тому же погода стояла солнечная, а впереди еще целых два месяца каникул, и эта поездка была нам в радость.
Глину селяне брали на раскопках кирпичного производства, что у бывшей гидростанции. А на песчаные саморазработки нужно ехать под деревню Устьлотовку.
Маловыездной конь бежал лениво, будто топтался на месте, и к песчаникам мы подъехали ближе к обеду. Лопаты было две, и мы по очереди загружали телегу, соперничая друг с другом, старались понравиться деду. В работе не заметили, как подкрались тучи, и в считанные минуты все накрыло непроглядной шапкой. Дождь и ветер были такой силы, что широкая телега, под которой мы укрылись, не давала нам никакого спасения. Дед Афоня стоял возле лошади. Промокшая рубаха очерчивала его худое тело. Дождинки из-под очков скатывались по лицу, словно слезы. Дождь хоть и помельчал, но похоже зарядил надолго, о чем «говорили» пляшущие в лужах пузыри.
Не догрузив телегу, мы спешно засобирались домой. Даже то, что мы загрузили, по раскисшей дороге лошадь везла с трудом. Подводу заносило то в одну сторону большака, то в другую, некованые копыта Буланого разъезжались. Чавкая ногами и хлюпая носами, тащились мы все эти три километра. Мокрые, как курята, глядя друг на друга, мы готовы были рассмеяться, но рядом шел угрюмый, молчаливый дед, и нас это сдерживало.
Ожидая работников, баба Катя расстаралась и накрыла по-праздничному стол. Тут же стояла чекушка «разговорчика», которая предназначалась хозяину. А дед, переодевшись в свежую рубаху, ходил по комнате, побрякивая мелочью в холщовом мешочке. Обычно он брал его, когда садился играть в лото, но сейчас дед Афоня будто нас подразнивал.
Видно, от того, что я был постарше своих приятелей, он подошел ко мне первому и раскрыл мешочек:
– Бери, сколько рука скажет!
От неожиданности я отшатнулся от мешочка и наотрез отказался от поощрения. Брать деньги было неловко. Но дед Афоня нашел такие убедительные аргументы, что отказаться было невозможно, и я, волнуясь, выудил несколько монеток. Такую же принудительную процедуру при поддержке своей супруги проделал он и с моими приятелями.
Дома я насчитал около рубля заработанной мелочи. Но какая это мелочь, если послереформенный советский рубль покрывал пару капиталистических долларов!
…Ворсихинские мастера постарались, и печь многие годы исправно служила хорошим хозяевам. Видно, не поскупился тогда Афанасий Антонович Морозов.
ПАРУНЯ
Она жила на окраине села в большом доме на две половины. Еще до войны его построили братья Андрей и Дмитрий. По роковой случайности они оба погибли на Ленинградском фронте. Четверых детей Прасковья Васильевна вырастила одна. После войны они разлетелись, как птицы из гнезда, и только Александр остался при матери.
Паруня, как ласково называли ее соседи и родственники, была нам родственницей по бабушкиной линии и меня привечала с особой теплотой, поскольку я никогда не отказывал ей в посильной помощи. И если бы не она, детство мое было бы много облачней.
Я закончил пятый класс, когда к ней на лето привезли из большого города внука Саньку Ерисова. Сын тетки Паруни недавно отслуживший в армии, сколотил для племянника незамысловатую коляску, и я возил в ней трехлетнего малыша. За лето парнишка привык, да и мне с ним было хорошо: сладостей от тетки теперь перепадало больше.
Когда под осень за Санькой приехали родители, он слезно не хотел расставаться с нянькой. В прощальный день у меня тоже подкатил комок к горлу: уж больно привязался я к мальчишке. К учебному году меня за присмотр одарили обсоюженными брезентовыми ботинками и рубахой.
После отъезда внука доверие у Паруни ко мне стало еще больше. Из школы я бежал добивать Санькину коляску, а заодно угоститься шаньгами с молоком, которые у тетки не выводились. Она уже не работала и по возрасту получала тридцатку колхозной пенсии. (Зарплата атомщика Сахарова была в то время более двух тысяч – Б.В.). Всю войну Паруня командовала в полеводстве, да и после Победы работушки переворочала ой-е-ей!
Несмотря на житейские трудности и болячки, она не растратила душевной доброты и отзывчивости к людям. В ее доме на окраине села частенько задерживались за чаепитием соседи, а порой и совсем незнакомые люди. Дальнего ли, ближнего ли путника она всегда приветит, обогреет и накормит.
Одно лето за деревней, в ближнем лесочке, стоял табор, так она и от цыган не отмахивалась, как другие. «Все божьи люди, – успокаивала она предупредительных соседей». К приветливой бабушке шли за хозяйским советом и за всякой мелочью. Она редко кому в чем-нибудь отказывала. Люди были благодарны Прасковье Васильевне.
Я ее тоже «отблагодарил». За печкой висела большая кирзовая сумка. С ней Паруня ходила в дальний сельмаг за продуктами. Однажды она замешкалась на огороде, и я, забросив коляску, нырнул в дом с волнительным намерением заглянуть в сумку. Помню, там лежали кулечки с пряниками и карамельками, а на самом дне серебряная россыпь монет. Они заинтересовали меня больше, чем конфеты, и одну двугривенную монетку я прикарманил. В другой раз сумка снова меня соблазнила, и теперь уже достал пару монеток. Сельповские сладости пересиливали мою совесть, и я продолжал безнаказанно приворовывать из кирзовой сумки.
Ее сын Александр допоздна задерживался на электроподстанции, а иногда на несколько дней выезжал на аварийные участки. Энергетикам платили прилично. Своей семьей он еще не обзавелся и к материной пенсии отдавал приличный привесок.
Как-то Паруня ушла к соседке, и меня, словно магнитом, потянуло к сумке. Но ее на привычном месте не оказалось. Порыскав по дому, я наткнулся на дядино пальто. В одном кармане лежал сильно надушенный одеколоном носовой платок, а в другом – туго свернутые купюры – его недавняя получка. Я вытянул одну бумажку. Это была серо-зеленая хрустящая сотня размером в полтетрадный лист. Волнение острыми колючками пробежалось по телу: таких денег я сроду не держал. Какие-то мгновения совесть боролась с рукой, которая то вытаскивала, то засовывала деньги на место…
С сотенной я укатил в соседнее село к родственникам. Когда хозяйка с сыном обнаружили недостачу и в догадках вышли на меня, я уже разменял деньги и с полной душевной щедростью угощал сладостями двоюродных сестер и братьев.
Будучи уже взрослым, я часто навещал старушку. Она давно уже забыла мои детские грехи, и мы вспоминали только о добром прошлом.
НОЧНОЙ ГОСТЬ
Зимним вечером, когда мать была на дежурстве, а я, разложив вокруг керосинки, книжки и тетрадки, делал уроки, в закуржавленное окно постучали. Из темноты палисадника пялилось и что-то маячило небритое одноглазое лицо. Младшая сестренка спала на печи, и я заробел. Случалось, незнакомцы и раньше к нам стучались, но этот пиратского вида старик почему-то не вызывал доверия, и я долго не осмеливался ему открывать. И только, когда он начал дуть на руки и приплясывать под окном, я его пожалел.
Еще в сенях он с акцентом затараторил:
– Моя Аптула теревня, там ущительнищал. Вы не пойтесь меня, ропята.
Обснеженные валенки он снял в холодных сенях и, смешно перешагивая разматывающимися портянками через высокий порог избы, продолжал извиняться и оправдываться:

