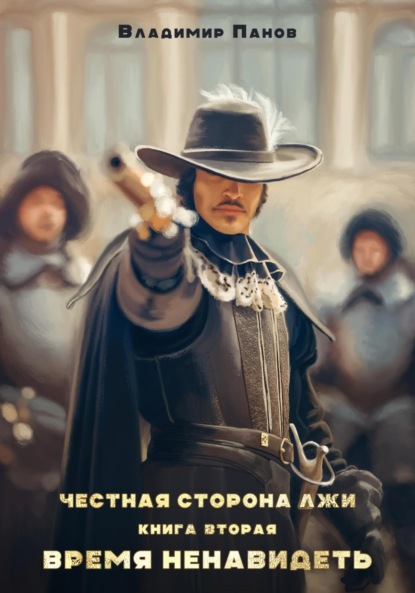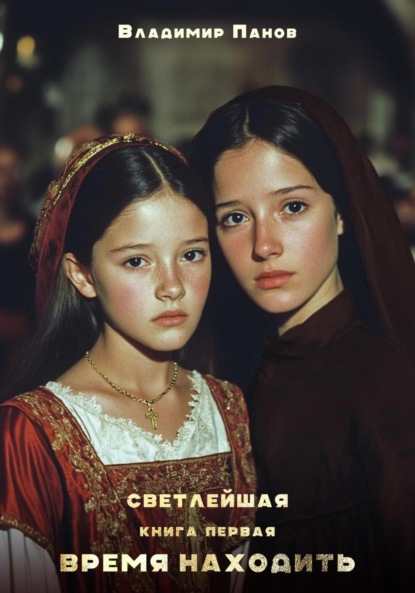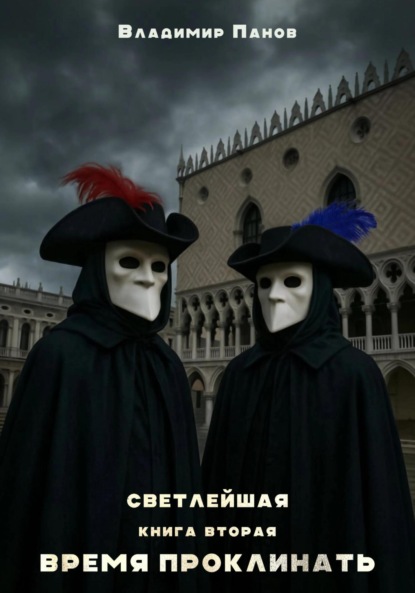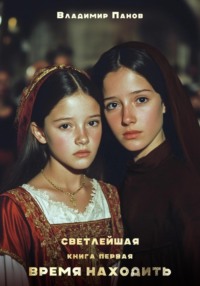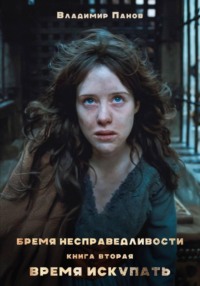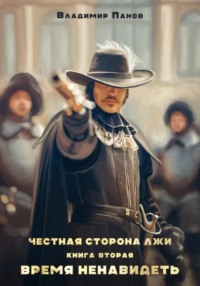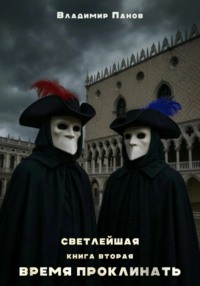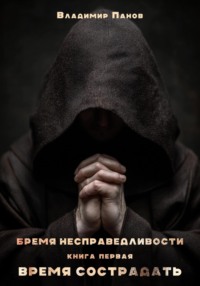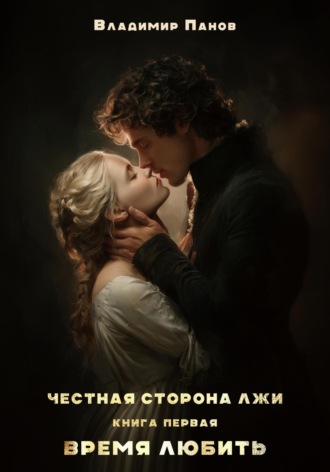
Полная версия
Честная сторона лжи

Владимир Панов
Честная сторона лжи
Книга первая
Время любить
Предисловие
Вторая половина XVI века оказалась для Франции бурной и кровавой. Не то чтобы до этого все было тихо и спокойно, но именно в это время религиозные войны между католиками и сторонниками церковной реформации – протестантами, или гугенотами1, как их называли во Франции, наложились на династический кризис. У последнего поколения правящей династии Валуа никак не рождались законные наследники, и им на смену должен был прийти далекий потомок Людовика Святого2 Генрих де Бурбон, король Наваррский. Проблема была в том, что он был гугенотом. Представить протестанта на троне Франции было для воинствующей партии католиков все-равно, что увидеть Иуду на папском престоле, а потому война за трон началась еще при жизни последнего Валуа – Генриха III3.
Из почти двадцатимиллионного населения Франции каждый десятый в то время был протестантом. Реформацию охотно принимала городская буржуазия, дворянство и даже крупная аристократия. В государстве формировались целые регионы, где гугеноты составляли большинство – там создавались сильные протестантские союзы, порою захватывались католические храмы и прогонялись их служители, но в большей части страны все происходило с точностью наоборот – хозяевами Франции были все-таки католики. После печально известной резни гугенотов в день Святого Варфоломея достаточно было искры, чтобы обе общины хватались за оружие и под руководством своих лидеров, а при нехватке таковых и сами по себе, принимались с энтузиазмом и воодушевлением убивать друг друга.
Королевская власть, видя, как быстро кончаются ее подданные и разрушается хозяйство страны, а значит и сокращаются налоги, периодически пыталась выступать арбитром в этом религиозном диспуте, но к тому времени представители обеих партий – и католической, и протестантской – из всех богословских аргументов предпочитали, в основном, физическое устранение оппонентов. Понимая, что другие аргументы уже не оказывают должного воздействия на противников, влиятельный род герцогов Гизов, ярых противников протестантизма, создали Католическую лигу – организацию религиозно одержимых людей, к каковым в то время можно было причислить большую часть населения. Пользуясь мощью этой организации, Гизы приобрели такую власть, особенно в Париже, что сам король был вынужден бежать из собственной столицы. Генрих III, изо всех сил удерживая на голове корону, чтобы она не досталась Гизам, заключил союз с Генрихом Наваррским и признал его своим наследником – гражданская война вновь вступила в свои законные права.
Чтобы поскорее остановить междоусобицу и кровопролитие, противоборствующие партии применяли самые в таких случаях очевидные, традиционные и доступные их пониманию политические средства: король приказал убить предателей-Гизов, а Лига организовала убийство еретика-короля.
Так в 1589 году протестант Генрих IV стал новым французским монархом, однако, не был признан таковым тремя четвертями своих подданных – ему пришлось вести долгую и тяжелую войну за право стать настоящим правителем. Чтобы добиться признания, король перешел в католичество. Трудно утверждать, что это решение было для него тяжелым, а тем более искренним, но оно принесло долгожданный мир в измученную страну. Уставшая от борьбы сама с собой Франция успокоилась: вновь распахивались заброшенные поля, возрождалось производство, ожила и расцвела торговля. Случилась и вовсе удивительная вещь – через какое-то время начали снижаться налоги! Никто из старожил не мог припомнить подобного чуда… Благосостояние народа ощутимо возросло. По большей части не старанием властей, а просто потому, что ему, народу, перестали мешать и перестали его грабить. Но главным достижением для многих французов стал, конечно, религиозный мир, оформленный знаменитым Нантским эдиктом короля.
Нантский эдикт наконец-то давал гугенотам законодательно оформленные права, подтверждал полное самоуправление крупных протестантских городов вплоть до права жаловать дворянство, как, например, в Ла-Рошели. Гарнизоны их содержались за счет королевской казны, но подчинялись начальникам-гугенотам. Однажды, встречаясь с гугенотской депутацией, Генрих IV прямо заявил, что все эти крепости еще пригодятся протестантам, когда его преемник на троне захочет отменить эдикт. В последнем, похоже, король не сомневался…
И все же главное было сделано. Нантский эдикт упорядочивал сосуществование двух религий в одной стране: гугеноты получили официально признанные права на некоторых территориях, а католики восстанавливали свои богослужения почти во всех местах, откуда были изгнаны. Впервые за многие годы исчезла необходимость отстаивать свое право на жизнь и убеждения с помощью оружия.
Вообще же, основатель династии Бурбонов оказался человеком незаурядным. Не тем, что был невероятно умен: расчетлив – да, хитер за маской простака – несомненно, но были люди умнее его, в том числе и его противники… И не своими выдающимся полководческими талантами: военным он был и правда отличным, а как стратег – особенно, но непобедимым не был, случались и у него поражения. А достижения его как правителя были обеспечены в первую очередь целым рядом блестящих и талантливых людей, коих он приставил к управлению страной, среди которых ярчайшей звездой был, безусловно, герцог Сюлли. Впрочем, в этом-то ведь и заключается гениальность монарха… Удивительным было другое: прожив почти всю жизнь под угрозой смерти, видя, как гибнут любимые люди, предаваемый «верными» друзьями, проведя полжизни в боях и походах, где кровь и смерть были непременными спутниками, окруженный интригами, вынужденный принимать непростые решения, Генрих IV тем не менее за свою жизнь сам умудрился не совершить ни одного серьезного предательства (если, конечно, не считать предательствами его бесчисленные любовные похождения и регулярный переход из католичества в протестантизм и обратно), ни одной сколько-нибудь значимой и достойной памяти потомков подлости; он как-то сумел охранить свое сердце от озлобления и равнодушной безжалостности; власть, к которой он шел много лет, но к которой едва ли стремился всю жизнь, ибо она стала для него просто избавлением от смерти, так вот эта власть, которой он достиг, не сделала его тираном, не привнесла в его характер коварство и подозрительность, не лишила обычного человеческого сострадания, способности прощать, жизнерадостности и огромной душевной щедрости.
Эти его странности, а по королевским меркам так и просто – чудачества, не остались незамеченными современниками. Простые люди сочиняли про него песни, порой довольно сатирические; они высмеивали его прижимистость (если уж честно, то просто скупость), потешались над его простоватостью и грубостью, над его дурачествами, привычкой браниться и богохульничать, и уж вовсю язвили и зубоскалили над его главной и непреодолимой слабостью – неукротимой, безмерной одержимостью женским полом. Но все эти песни и анекдоты не были ни злыми, ни оскорбительными – над ним смеялись, но искренне любили, и в памяти народа он остался как «Le bon roi Henri»4.
С воцарением Генриха IV казалось, что во Францию пришла эпоха благоденствия, мира и порядка, но все кончилось внезапно: некто Франсуа Равальяк, очередной религиозный фанатик из тех, что умеют даже в проповедях Христа найти призыв к убийству, нанес королю несколько смертельных ударов кинжалом на улице Жестянщиков 14 мая 1610 года. Малолетнему наследнику Людовику было тогда всего восемь лет, и править стала его мать, жена Генриха IV – Мария Медичи. Страна сразу же, как говорится, почувствовала разницу: вместо снижения налогов – их повышение, вместо присмиревшей знати – целый парад заявлений о своих аристократических претензиях, наступление на права гугенотов, недовольство дворянства правительством, где начали заправлять фавориты королевы, резкая смена внешней политики… Ситуацию не исправил и созыв Генеральных штатов5 – страна постепенно погружалась в подзабытое уже состояние гражданского и религиозного противостояния.
Особое раздражение, даже ненависть, и у народа, и у большей части дворянства вызывали фавориты Марии Медичи: итальянец Кончино Кончини и его жена Леонора Галигай. И так-то в то время репутация любых иностранцев среди французов была, мягко говоря, неоднозначной, но эта парочка, казалось, в полной мере оправдывала все предубеждения. Они не обладали ни скромностью, ни тактом, ни пониманием границ приличий, зато имели огромное влияние на королеву и беззастенчиво пользовались своим положением, чтобы наживать богатство и титулы. Многие из министров и управленцев Генриха IV были заменены ставленниками Кончини или маршала д`Анкра, как он назывался теперь, что отнюдь не всегда способствовало разумному руководству страной.
А что же наследник великого Генриха, юный Людовик XIII? В 1614 году король был объявлен совершеннолетним, регентство официально закончилось, но правление короля не началось. Мария Медичи и ее фавориты не захотели терять власть, и по-человечески их можно было понять, ведь они так привыкли к ней. А потому королева-мать просто не пускала сына в Королевский Совет, тщательно оберегая того от любой государственной деятельности, кроме официальных церемоний. Оберегала бы и от них, но не посадишь же на трон Кончини – иностранцы не поймут, да и свои не оценят…
Невозможно узнать, что чувствовал юноша, терпевший унижения не только от фаворита, но и от собственной матери, очевидно только, что это не добавляло ему сыновней любви и почтения. В каком-то смысле счастливое детство маленького Луи окончилось с гибелью отца. Отца, который смешил его и играл с ним, который не стеснялся при необходимости лично отхлестать его за провинности, но просил называть его папой, а не господином, как требовал этикет, который возил его на спине при иностранных послах и придворных, и после смерти которого юный Людовик больше уже никогда не видел родительской ласки. Как говорил потом он сам, смерть отца оставила на всю жизнь шрам у него на душе. Не удивительно, что страдавший от недостатка внимания мальчик рос замкнутым и неразговорчивым; его характер и личность были не всегда понятны современникам и тем более остались непростой загадкой для потомков.
В четырнадцать лет его женили на испанской инфанте Анне Австрийской, во Франции появилась новая королева, но не появилось новой семьи. Этот брак вызвал очередной всплеск возмущения принцев крови, простых дворян, гугенотов, словом всех, кто и так был недоволен правлением Марии Медичи и использовал это событие, как повод к восстанию, которое возглавил принц Конде. В мае 1616 года ценой огромных уступок ослабевший двор подписал мир с восставшими, больше похожий на капитуляцию…
Глава 1 Битва при Жарнаке
На исходе дня 2 июля 1616 года трое всадников не спеша двигались по дороге в Сент. Дорога эта проходила большей частью вдоль Шаранты. От самого Ангулема, который они миновали еще днем, река то показывалась из-за невысоких холмов и виноградников, то скрывалась за ивовыми зарослями, лесочками и небольшими деревеньками. Шаранта здесь уже была спокойной и полноводной; тихим, безветренным летним вечером она с достоинством, рассудительно и неторопливо несла свои воды, а на их глади закат понемногу уже начинал свою любимую игру с людьми, щедро даря их зачарованным взорам все возможные оттенки золотого и красного. Дорога была почти пуста, тишину вечера нарушали лишь пение невидимых в зелени птиц, да иногда плеск от весел рыбацких лодок и торговых баркасов.
Первый всадник, молодой человек лет не больше двадцати, ехал на коне вороной масти. На нем была черная стеганная куртка, поверх которой был надет простой колет из темной кожи и коричневый плащ, а голову укрывала шляпа без всяких украшений. Его темные волосы, совсем не по моде тех лет, были коротко острижены, лицо, слегка худощавое, с острыми чертами, несмотря на юный возраст выражало уверенность. Длинная шпага на боку, вне всяких сомнений, выдавала в нем дворянина, а строгость одежды – гугенота. В Сентонже и Пуату, как и на всем юге Франции, протестантизм, к тому времени, пустил глубокие корни и подобные скромные и простые одеяния, немыслимые для дворян Шампани или Анжу, а уж тем более для парижских модников, были здесь вполне обычны. Двое же его спутников, совершенно определенно были слугами – они ехали, слегка отстав от молодого человека. Один, лет примерно шестидесяти, с венчиком седеющих волос, видневшихся из-под шляпы, был на рыжей кобыле, а второй, возрастом никак не старше своего господина, ехал и дремал, прикрыв глаза, на сером с пятнами мерине.
Впереди за деревьями показались черепичные крыши небольшого городка, и молодой дворянин обернулся к старшему слуге:
– Эсташ, это Жарнак?
– Да, сударь. – хрипловатым, немного тусклым голосом ответил слуга. – Если угодно, мы заночуем в нем.
– Здесь уже недалеко Коньяк, почему не заночевать там?
– Сударь, я же говорил, что ваш брат советовал не останавливаться в больших городах.
– С каких это пор Коньяк – большой город… – вполголоса проговорил молодой человек, но спорить не стал.
– К тому же, сударь, скоро будет темнеть, – слуге явно хотелось поговорить после долгого молчания. – Да и гостиницу в Жарнаке я знаю, это «Красный петух». Ее держит весьма достойный собрат. Я останавливался в ней на пути к вам… Сам же Жарнак, сударь, хоть и есть большая деревня, но место примечательное! Под этим городом много лет назад во время войн за веру произошло сражение! Собратья тогда потерпели поражение, но самое печальное, что погиб принц Конде6! Нашему делу это нанесло невосполнимый удар. Если бы принц…
– Эсташ, я знаю это, – на лице молодого человека скользнула улыбка. – Что ж, петух, так петух… Тогда уж добавим хода – Жак, наверное, умирает от голода! Правда, Жак?
Молодой слуга поднял удивленное сонное лицо, но через секунду расплылся в улыбке:
– Что вы, сударь! Я могу проехать еще хоть двадцать лье7!
– Хвастун… – проворчал Эсташ.
– Скромняга, – весело добавил молодой господин. – Хвастун сказал бы сорок!
Молодого человека, подъезжающего в этот вечер к Жарнаку, звали Филипп де Шато-Рено. Ему было девятнадцать лет, он действительно был дворянином и, как и вся его семья, протестантом. Поместье Шато-Рено, называвшееся Фроманталь, располагалось на границе Гиени и Лимузена в живописной излучине Дордони. Собственно, владельцем поместья был не он, а его старший брат Николя. Брата он не видел почти три года, и почти два года прошло с тех пор, как он получил от него последнее письмо. Их старшая сестра была замужем уже семь лет, жила она недалеко от Фроманталя и прикладывала немало усилий для воспитания еще одного его брата – Жоффрея, которому недавно исполнилось четырнадцать.
Родители у Шато-Рено умерли. Правильнее сказать, умерла мать, а что стало с отцом было неизвестно. Род Шато-Рено был древним, но порядком обедневшим. Не потому, что предки его были мотами и бездельниками – совсем наоборот, просто не было в них какой-то предприимчивой жилки: выгоде они предпочитали честь, хозяйством занимались по старинке, не сдирая с крестьян три шкуры, воевали за короля, тратя при этом последние сбережения, даже женились не из расчета, а по велению сердца. Такие чудачества предков привели к тому, что, когда отец Филиппа, Симон де Шато-Рено, вступил в наследование, земли имения частью были распроданы, частью заложены, а религиозные войны вконец разорили хозяйство. От всего имения остался «замок» – просторный старый дом в два этажа с башней, несколько строений, да чудом сохраненная часть порядком заросшего парка.
Отец сражался в армии Генриха Наваррского. По зову сердца и веры, поэтому война не принесла достатка в Фроманталь. Хоть и не будучи особо приближенным, но будущего короля Симон де Шато-Рено знал лично. Однажды Беарнец даже гостил проездом в Фромантале. После воцарения Генриха IV отец получил должность в Париже и с тех пор семья жила то в столице, то на юге. Государственная служба давала, к удивлению, неплохой доход. Симон де Шато-Рено, будучи убежденным протестантом, вел скромный, и даже какой-то закрытый образ жизни. Со временем, удалось вернуть залоги, а потом и выкупить большую часть утерянной предками земли. Доходы от ее сдачи в аренду позволили отремонтировать дом и содержать имение, даже держать штат слуг, так что, в общем, семья не бедствовала, но настоящего, большого богатства так и не пришло.
В 1602 году отец Филиппа получил назначение на должность второго советника Шатле8. Теперь местом его службы стал Консьержери9. Чем конкретно занимался второй советник Шатле было не совсем понятно. До Филиппа доходили обрывки разговоров отца про следствия и аресты, но по-настоящему тот никогда не рассказывал о своей службе. Гости в доме бывали, но не часто. В основном это были бывшие сослуживцы и единоверцы. Отец имел репутацию честного солдата и со времен гражданских войн, видимо, обладал определенными связями. Для Николя он готовил карьеру в гвардии, а дочь Луизу удачно выдал замуж за вполне состоятельного дворянина из Бержерака.
В последний раз Филипп видел отца в январе 1610 года. Проводив семью до Фроманталя, тот вернулся в Париж. Были еще два письма к матери, потом, как раскат грома, пришли известия об убийстве короля, а вскоре приехал Эсташ Ропен. Он заявил, что хозяин его пропал.
Филипп наизусть помнил рассказ Эсташа, как поздно вечером 17 мая за отцом прибыл посыльный из Консьержери, как тот спокойно собрался и ушел. Подобные вызовы были не редкостью, поэтому Эсташ понял, что что-то случилось не сразу. Он уже хотел обратиться к единственному человеку о котором говорил отец и которого Эсташ знал где найти – к его начальнику, генерал-лейтенанту Шатле Жану де Фонтису, но не успел. Генерал-лейтенант сам прислал справится о здоровье Симона де Шато-Рено и узнать почему тот не выходит на службу.
Потом было расследование. Эсташ провел три ночи в Шатле, был четыре раза допрошен, но выяснить получилось немногое. 17 мая никто не посылал за отцом и сам он ни в Консьержери, ни в Шатле не появился. Никаких следов Симона де Шато-Рено обнаружить не удалось. Может, следствие и не закончилось на этом, ибо Жан де Фонтис, по словам Эсташа, воспринял все произошедшее крайне серьезно, но через три дня слугу отпустили. Генерал-лейтенант Шатле лично пришел проводить его, просил немедленно отправиться в Фроманталь и передать семье Шато-Рено слова искреннего сочувствия, предложение о помощи, когда таковая потребуется, и от себя лично немалую сумму – пятьсот пистолей. Видимо поэтому до самого Фроманталя Эсташа сопровождали двое вооруженных людей, приставленных де Фонтисом.
Николя немедленно уехал в Париж. Мать не смогла его удержать, хотя, боясь за него, и пыталась это сделать; она сумела лишь уговорить его взять с собой Эсташа. Брат вернулся только поздней осенью. Он рассказал матери и Филиппу, как все это время пытался выяснить судьбу отца: нашел барона д`Аркиана и еще нескольких его приятелей – сослуживцев еще по войне, разговаривал с де Фонтисом, пытался собирать слухи, а еще ждал, надеялся, что отец сам подаст весть. Надежда эта с самого начала была зыбкой и растаяла быстро. По словам Николя, господин де Фонтис принял в нем самое искреннее участие и заботу. Как и хотел отец, де Фонтис предложил ему похлопотать о службе в одной из гвардейских рот. Почему Николя, всегда мечтавший об этом, отказался, Филипп не понял, не поняла этого и мать.
Некоторое время заняло оформление наследства. В Париже отцу принадлежала часть дома, ее продали, а вырученные деньги Николя вложил в какое-то дело, он не рассказывал подробности. Брат стал жить в Париже, а в Фроманталь приезжал все реже. Чем он занимался в столице семья так и не поняла, но денег ему хватало – все доходы от поместья оставались у матери.
Матушка же их, после того как последняя надежда покинула ее, стала угасать. Она была еще очень красива – когда пропал отец ей не было и сорока, но до конца жизни она ходила только в черном. Филипп тогда понял, что мать была не просто супругой – она по-настоящему любила отца. Казалось, что лишь забота о детях дает ей силы, но зимой 1613 года она заболела и умерла. В день ее похорон Филипп последний раз видел старшего брата.
Еще недавно у него была большая счастливая семья: отец, который каждый раз, приезжая, по-старомодному вставал на колено перед женой и целовал ей руку, и мать, которая поднимала супруга и с искреннем умилением обнимала его. Тогда ему это казалось каким-то нелепым, даже смешным. Вспоминая улыбку отца и радость матери от встречи, Филипп уже потом понял, сколько было нежности и любви в этом их семейном ритуале. Теперь же из той, счастливой жизни мало что уцелело: не стало родителей, уехал старший брат, у сестры своя семья, остался только он сам и Жоффрей.
В шестнадцать лет Филиппу де Шато-Рено пришлось начать вести хозяйство самому. Был, конечно, управляющий, нанятый еще отцом, помогала Луиза, но вся ответственность лежала теперь на нем. От имени брата он заключал договоры, выбирал поставщиков, покупал лошадей, он понял ценность денег и научился их тратить, словом, незаметно для самого себя стал взрослым. Боль от ранних потерь постепенно ушла, но слишком рано унесла с собой и беззаботность детства. Ну а прошлой зимой Филипп даже получил свой первый боевой опыт.
Шайка мародеров и дезертиров, орудовавшая в округе, вознамерилась напасть на Фроманталь. Из соседней деревни прибежал мальчишка и рассказал, что разбойников видели, и они уже в пути. Все, кто присутствовали при этом: старик–управляющий, конюхи, слуги, два арендатора и даже парнишка, принесший известие, все, не сговариваясь, устремили свои взгляды на молодого хозяина Фроманталя. А Шато-Рено уже не видел этих взглядов, у кого растерянных, а у кого и испуганных. Он ни секунды не сомневался в чем состоит его долг. Долг дворянина защищать то, что он считает своим: своих людей, свой дом, свою землю, своего короля и свою веру. Так говорил отец – значит, это была правда. Поэтому Филипп, не теряя ни минуты, начал отдавать распоряжения, нисколько не сомневаясь в том, что ему будут подчинятся, и, как всегда бывает в таких случаях, видя его уверенность и спокойствие, люди вокруг беспрекословно выполняли все его приказы.
Первым делом был отправлен посыльный в ближайший городок за отрядом солдат, вторым – были вооружены все, кто мог держать оружие, благо старых аркебуз в поместье хватало, но имелось, очень кстати, и два новых мушкета. Шпага была только у командира этого импровизированного гарнизона и его младшего брата. Да и никто из слуг, конечно, не мог бы на равных сражаться холодным оружием с бывшими солдатами. Но дубинками, тесаками и просто палками были вооружены все.
Расставив людей Шато-Рено стал ждать. По слухам, банда мародеров состояла из десятка человек. Филипп нисколько не сомневался, что одним им не справиться с таким количеством опытных вояк – нужно было продержаться до прихода помощи. Когда подошедшие незваные гости увидели, что к их визиту оказались готовы, они предложили «гарнизону» почетную капитуляцию, а в противном случае пообещали для защитников традиционные в таких случаях разнообразные казни. Филипп охотно вступил в переговоры, всем видом показывая свою неуверенность и растерянность и давая понять, что вполне может и пойти на условия разбойников.
Какое-то время ему удавалось морочить голову «осаждающим», но в конце концов те разгадали этот маневр и всей толпой по команде предводителя бросились в наступление. Раздались нестройные выстрелы, и к удивлению командира «гарнизона» двое нападавших упали! Один замертво, а второй был ранен в ногу. Раненый кричал своим, чтоб помогли ему, но его соратники уже слышали топот лошадей, встречаться с настоящими солдатами им хотелось меньше всего, потому этот неудачливый разбойник, оказавшийся к тому же предводителем, был захвачен в плен.
– Что делать с этим висельником, шевалье? – спросил приведший драгун сержант. – Отвезти его в город или, может быть… прямо здесь повесить?
Высокого права10, права казнить Шато-Рено не имел, но право моральное, которое ни судьи, ни чиновники оспаривать бы все-равно никогда не стали – право покарать разбойника на своей земле у Филиппа было. Ухмыляющееся лицо преступника не вызывало ни капли жалости, а сержант только ждал одного слова.
Сказать это слово было нужно. Так требовали долг, справедливость и просто здравый смысл. Но Филипп отчетливо понимал, что ни за что не сможет сказать его! Он готов был сражаться и не щадить ни своей, ни чужой жизни, но сейчас перед ним находился отвратительный, но, прежде всего, раненый и уже беззащитный человек. Филипп помнил, как отец говорил ему и братьям, что никогда нельзя добивать поверженного врага, что благородный человек обязан оказать помощь раненому противнику. Честь не была для Шато-Рено просто красивым словом, пустой оберткой, в которую, подчас, заворачивают вовсе даже неприглядные мотивы и поступки. Видя перед собой пример отца, которого никто не посмел бы попрекнуть в бесчестии, он сам впитал в себя его представления о долге и благородстве и даже еще более идеализировал их в силу своего юного возраста и малого опыта.