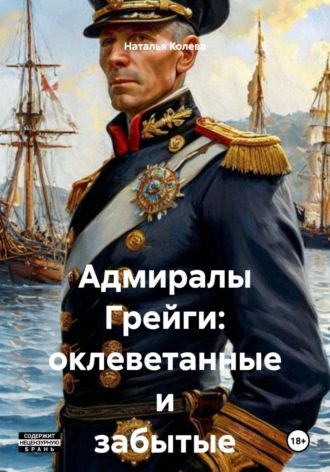
Полная версия
Адмиралы Грейги: оклеветанные и забытые
Когда началась Отечественная война 1812 года, Грейг получил назначение в ставку главнокомандующего Молдавской армией и Черноморским флотом адмирала П. В. Чичагова, оттуда Грейг был командирован в Одессу, Константинополь, острова Мальту и Сицилию с дипломатическим поручением привлечь южные страны к войне против Наполеона. В Петербург А. С. Грейг вернулся в 1813 году и сразу получил назначение командовать парусной и гребной флотилией при осаде Данцига. Алексей Самуилович неоднократно лично водил матросов своих судов на штурм вражеских батарей. Данцинг был взят, Грейг произведен в вице-адмиралы и награжден орденом Св. Владимира 2-й степени. Наверное, именно тогда он понял, что нельзя иметь две родины: надо выбирать. Он выбрал Россию и принял русское подданство. Первый этап жизни – этап морской закалки и боевой выучки, закончился и начался новый, самый трудный.
2 марта 1816 года вице-адмирал Алексей Самуилович Грейг был назначен на должность Главного командира Черноморского флота и портов и военного губернатора Николаева и Севастополя. Работы адмиралу предстояло много. Состояние флота, портов и городов находилось в крайне запущенном состоянии; почти всё требовало немедленных и значительных исправлений, и улучшений, а многого и вовсе не было. А. С. Грейг приступил к трудной работе и делал её честно, как учил его отец, в течение почти 18 лет, до 1833 года. И как учил Петр Великий: «Когда тебе что приказано будет сделать, то управь сам со всяким прилежание, а отнюдь на своих добрых приятелей не надейся и ни на кого не уповай». Грейг и управлялся: за судостроение принялся как отличный знаток не только теории, но и практики кораблестроения. Но не всё получалось быстро, многое не получалось и не получилось. Да и как могло получиться, когда председателем «Комитета для исправления флота» был государственный канцлер, граф Александр Романович Воронцов, который в самом начале царствования Александра I написал: «России быть нельзя в числе первенствующих морских держав по многим причинам, да и в том ни надобности, ни пользы не предвидится. Посылка наших эскадр в Средиземное море и др. далекие экспедиции стоили государству много, сделали несколько блеску и пользы никакой. Прямое могущество и сила наша должны быть в сухопутных войсках; оба же сии ополчения в большом количестве иметь было б несообразно ни по числу жителей, ни доходам государственным. Довольно, если морские силы наши доставят нам охранение берегов и гаваней наших на Черном море, для чего нужно иметь там силы, соразмерные турецким, и достаточный флот на Балтийском море, чтобы на оном господствовать». Видимо с подачи Воронцова император, не чувствовавший особой любви к морскому делу, не мог уделить ему много внимания. Сам признался в этом, когда, осматривая морские учреждения в Николаеве, обратился к адмиралу Грейгу и сказал: «В прочем я сужу о морском деле, как слепой о красках. Вина не моя: лучшие годы мои прошли в сухопутной войне». Но задача Комитету была поставлена: «извлечение флота из настоящего мнимого его существования и по приведению его в подлинное бытие» и для исполнения задачи был собран сильный состав исполнителей: адмиралы В. П. Фондезин, Н. С. Мордвинов, И. П. Балле, М. К. Макаров, вице-адмирал П. К. Карцев, контр-адмирал П. В. Чичагов и капитан 1 ранга А. С. Грейг. Но Воронцов оставался на своем месте, поэтому вводимые во флоте реформы, несмотря на усилия группы специалистов морского дела, нередко не давали отдачи. Флот не получал ни внимания, ни средств, какие требовались для его существования и развития. Большинство стоящих во главе морского управления лиц не сознавало лежащей на них ответственности перед родиной и не принимало никаких мер для поддержания морской силы на подобающей для России высоте. Несколько десятков выдающихся морских офицеров не в силах были спасти флот от грозившего ему вырождения. Прав был историк Е. И. Аренс, написавший: «Флот и его представление не были в особенной чести. Пренебрежение к особенностям морской силы и стремление оставить его в сухопутные рамки неизбежно должны были привести флот к захудалости и упадку. Подвигов не ценили, а всякое лыко в строку ставили. При таких условиях и выдающиеся личности [Гр. Сенявин] мало что могли изменить в общей картине». Дело осложнялось тем, что император проявлял слабость характера. Огюст Феррон Ла Ферроне посол в России, констатировал: «Император чрезвычайно недоверчив и подозрителен, что свидетельствует о слабости, которая представляет собой тем большее зло…». Австрийский дипломат Клеменс фон Меттерних, видимо помня, как на Веронском конгрессе ему удалось «склонить на свою сторону российского императора и удержать его от заступничества за единоверцев», когда Греция восстала против турок, писал: «Император усваивал какую-нибудь идею и вскоре начинал плыть по течению, на которое она его увлекала. Требовалось около двух лет, чтобы идея достигла полного развития и мало-помалу приобретала в его глазах значение системы. Во время третьего года, он оставался верен избранной системе, привязывался к ней и с подлинной благожелательностью выслушивал её защитников и сторонников… На четвертый год, когда становились очевидны последствия, пелена начинала спадать с его глаз. 5-й год являл собой картину бесформенной смеси исчезающей системы и новой идеи, начинавшей зреть в его мозгу. Зачастую эта новая идея была полной противоположностью только что оставленной». Так чему удивляться, что решений ждали много лет; что многие задумки и представления Грейга доделывал Лазарев и ему их потом в заслугу и приписали.
А. А. Асланбегов об этом времени писал: «Итак, деятельность портов умолкла, корабли гнили в гаванях, флот перестал плавать, и в то время, когда гром непрерывных побед сопровождал русскую армию от Москвы до Парижа, когда она записывала в свои летописи Смоленск, Бородино, Красной, Дрезден, Лейпциг, Краон и Монмартр, Черноморский флот был в полном и безмятежном усыплении. Застой этот продолжался и в последующие четыре года, и в это-то время апатии и бездействия прибыл в Николаев и вступил в командование Черноморским флотом и портами Алексей Самуилович Грейг»[46].
Вот в такое время получил флот А. С. Грейг. И где бы он ни работал, какой бы области ни касался, всюду вводил новое, совершенное, передовое. Современники писали: «Этот передовой деятель представлял собой идеал глубокого ученого-моряка, моряка-практика и цельно образованного человека». Алексей Самуилович удивлял и поражал современников своими профессиональными знаниями моряка и широким научным кругозором. Кроме кораблестроения, мореплавания и артиллерии, Грейг интересовался математикой, медициной, физикой, астрономией, юриспруденцией, экономикой, химией. Знания Грейга были энциклопедические: «Познания адмирала Грейга были разнородны и многосторонни. Моряк по призванию, он знал морское искусство в обширном смысле этого слова. Так, он был основательно знаком с кораблестроением, корабельной архитектурой, механикой и инженерными науками и со всем, что относится к морскому делу. Естествоведение, экономические науки, история, литература, музыка – все эти знания уступали сильному, настойчивому и многообъемлющему уму… Отличительными чертами его характера были: редкая общительность, ясность в предположениях, строгая определенность во всем и точность в действиях»[47].
С первых же дней Грейг обратил внимание на совершенствование конструкций судов Черноморского флота и технологии их постройки. Николаевское адмиралтейство и Черноморский флот при Грейге возродились заново. Адмиралтейство Алексей Самуилович застал таким, каким оно было еще при Потемкине: стапеля и строения догнивали, суда несколько лет не строились, эллинг «дошел до совершенной ветхости»; леса, «по камышам лежавшие»; «мастеровых не хватает… поэтому новый корабль ещё не заложен, денег для выплаты подрядчикам нет». И кто возьмется строить, предыдущие-то работы не оплатили? Сразу же, 23 сентября 1816 года, Грейг в рапорте морскому министру докладывал о «плохом сохранении леса, недостатке специалистов, о том, что нет ни одного парового судна, проекты боевых кораблей оставляли желать лучшего, да и просто не хватало судов. В Николаеве осталось два ветхих эллинга, на которых несколько лет не строили судов». Так что же, конкретно, сделал для флота Алексей Грейг с 1816 по 1833 годы?
Я не буду подробно и как бы со знанием дела описывать усовершенствование кораблей, в моем случае это было бы просто глупо, просто перечислю то, что нашла и в документах, и в воспоминаниях. Итак, начнем:
Ввел механизацию многих технологических процессов;
Разработал новые, улучшенные проекты кораблей, использовал в производстве паровые машины и донецкий каменный уголь; (судя по письму Лазарева Меншикову, он озаботился применением не дров, а донецкого угля, куда как позже. Потом и о нем забыли, стали покупать за границей[48].). Но видимо, злоупотреблений не избежали[49].
Разработал проект канонерских лодок, вооруженных 3-мя орудиями. О них очень хорошо написал один из моряков: «Эти канонерские лодки не представляли с виду картинку, но имели хороший ход, сильную артиллерию и большие выгоды в боевом отношении по несложности рангоута: две мачты, из которых передняя имела уклон на перед и вместе служила бушпритом. Мачты эти снимались в случае боя, и в то же время парусность на рейках, называемая «латынью», свертывалась и опускалась на концах за борт, следовательно, путаницы от вооружения не могло быть и вместе с тем осколков от ядра сравнительно бывало менее». Для Дунайской флотилии предложил использовать малые суда, иолы. При нем было построено 40 канонерских лодок и 49 иолов;
Впервые создал на Черном море паровые суда;
Лично спроектировал первый на Черном море 120-пушечный корабль «Варшава» и мощные канонерские лодки типа «Дерзкая»; Первый военный пароход «Везувий» вооруженный 14 орудиями; спущен на воду первый в России фрегат «Штандарт», вооруженный 60 орудиями;
Постройка нового Спасского адмиралтейства в Николаеве и Адмиралтейства в Измаиле;
Начато сооружение Севастопольских доков; 9 из 11 эллингов построены при Грейге;
При постройке разработал и использовал на практике математический («параболический») метод проектирования судов, по которому на Черном море, при адмирале, было построено 54 судна разного класса;
Использовал якорные цепи вместо канатов; водоотливные помпы; иллюминаторы; переговорные трубы; опреснительные установки, чтобы из морской воды получать пресную; вместо сальных свечей использовать в каютах фонари. Это предложил и широко применял еще его отец, Самуил Карлович, но об этом благополучно забыли;
Для оперативного управления флотом в 1819–1820 гг. Грей-гом были выработаны дневные (флажками) и ночные (фонарем) сигналы. Дневные флажные сигналы, разработанные на Черном море, были введены для всего российского флота.
Был изобретен новый оптический телеграф и установлена первая на Юге телеграфная линия. В 1826 году линия соединяла Николаев и Очаков, в 1828 году линию продлили до Севастополя, в 1830 году – от Севастополя до Херсона, а потом до Измаила. Это была самая длинная телеграфная линия в России. (Об этом более подробно чуть позже). При осаде Варны в 1828 году был применен полевой оптический телеграф для связи между флотом и войсками графа Воронцова. Буквенный телеграф, введенный Грейгом, оказался при осаде Варны удобным для передачи длинных многословных приказов с флота на берег.
В 1821–27 гг. добился постройки батарей с ядро-калийными печами, для нагрева ядер при нападении противника;
При Грейге устанавливались маяки (о них тоже чуть позже, это надо видеть) и навигационные знаки; углублялись фарватеры с помощью паровой землечерпалки; благодаря этой паровой землечерпальной машине, были очищены ингульский и очаковский фарватеры. Это позволило отказаться от камелей (плавучий док, состоящий из двух понтонов) и отправлять корабли с полным парусным вооружением своим ходом.
Ввел правила противопожарной безопасности;
Установил на кораблях громоотводы, что спасло не мало кораблей;
Определил держать порох в латунных бочках; станки для карронад, единорогов и орудий гребных судов; упростил крепление пушек на корабле;
На 100-пушечных и выше судах, разработал орудия с удлиненными стволами. Предложение было отослано в столицу в 1827 году, тогда же разрешение изготавливать длинные пушки было получено. В 1830 году было решено изготавливать пушки по чертежам Грейга для всего флота;[50]
Большой знаток химии, Грейг еще в 1821 году изобрел новый зажигательный состав для брандскугелей, который горел дольше обычного;
Открыл училище для дочерей нижних чинов; штурманское училище;
Построил обсерваторию в Николаеве;
Содействовал созданию в Севастополе морской библиотеки, а в Николаеве – библиотеки при Депо карт; само Депо было реорганизовано и создана гидрографическая служба во главе с братьями Манганари;
В Севастополе так же были построена двухэтажные казармы и учреждена верфь, с которой были спущены: шлюп «Диана», фрегат «Рафаил»; корвет «Сизополь»; бригантины «Елизавета», «Нарцисс»; шхуны «Севастополь» и «Смелая»; тендер «Жаворонок» и другие суда. Вообще, всё то, что касается Севастополя, надо бы писать отдельно. Потому, что адмирал большую часть представленного в 1826 году отчёта в «Комитет образования флота», посвятил именно Севастополю. Там сообщено не только в каком состоянии Грейг нашел будущую базу Черноморского флота при вступлении в должность, но и то, что было сделано им, Грейгом, за 10 лет на те крохи, которые Александр Павлович изволил выделять. Документы приведу. В этом отчете – описание, ведомости и план реконструкции за подписью Главного командира Черноморского флота вице-адмирала Грейга. Вот некоторые данные из этого отчета:
Грейг открыл офицерские курсы;
Построил водопровод в Николаеве и Севастополе; в Севастополе установил музыкальные часы и фонтан.
В Николаеве организовал мощение улиц, высадку деревьев.
Грейг выписывал научную и техническую литературу, следил за новостями науки и техники и все полезное внедрял для Черноморского флота. Увидев, что на кораблях, обшитых медными листами, железные гвозди «съедают медь», распорядился крепить листы медными гвоздями. Это продлило срок службы кораблей. Это всего лишь малый перечень дел Грейга. Первое, на что обратил внимание Грейг: на низкое качество кораблей и маленький срок их службы. В рапорте морскому министру он писал: «Известно, что почти ни одно судно не про-служивало поныне сего времени (15 лет), а большая часть оных обыкновенно приходит в ветхость по истечении шести лет, а с 10 – при всех исправлениях делаются уже никуда не годными, кроме в разломку». Один из первых его приказов по флоту: «Корабли, составляющие Черноморский флот, вообще имеют недостаток в постройке, что не могут выдержать продолжительного крейсерства без повреждений в корпусе или течи в подводной части, происходящих единственно от движения членов при качке; а особливо сто-пушечного ранга корабли имеют сей недостаток более, да чрезмерная оных перегибь доказывает слабую постройку. По важности сего предмета считаю нужным принять меры к улучшению кораблестроения». В результате улучшений, введенных Грейгом, возросла прочность, герметичность и долговечность судов. Корабли, построенные при Грейге, до тимберовки, (ремонт корпуса судна с постановкой его в док) служили 11–13 лет, а с тимберовкой – до 17 лет. Стремясь к повышению «остойчивости» военных судов, Грейг обратил внимание на их рангоут и парусность. Обычно их размеры отдавали на «откуп» капитанам. Поэтому Алексей Самуилович распорядился ввести правила для вычисления размеров рангоута и толщины такелажа в зависимости от ранга и размера судна. Были введены правила вычисления толщины якорных цепей (канатов) и веса якорей, определения числа команды на военных и транспортных судах. Для продления срока службы судна и его сохранности Грейг распорядился в мирное время снимать часть носовых и кормовых орудий для облегчения оконечности и снижения перелома судов. Чтобы исключить пересыхание корпусов и рангоутов при стоянке в портах, Грейг отменил стоянку у стенки и рассредоточил суда по акватории порта, что допускало свободный поворот и равномерный прогрев. При каждом посещении Севастополя Грейг лично контролировал сохранение судов в порту… Не только все перечисленное, но и много больше из того, что было сделано по приказаниям Грейга, есть в книге «Постановления о улучшении кораблестроения, адмиралом Грейгом в разное время сделанные». Мало того. Начиная с 1817 года каждую кампанию флот выходил в море для учебы. Сам Грейг ежегодно участвовал в этих плаваниях и проводил в море 5–6 недель. Экипажи учились маневрировать в составе эскадры и стрелять. Если он видел какую-то неточность в исполнении маневра, то переезжал на корабль и заставлял повторить манёвр в своем присутствии. Именно в эти годы получили мореходную и военную практику те моряки, что потом прославились в боях с турецким флотом. Алексей Самуилович Грейг добился того, что корабли превратились в грозную боевую силу.

Юлия Михайловна Грейг (Сталинская).
«Нет больше той любви, как если кто положит душу свою…»
Но больше всего мне хочется рассказать о семье Грейга, его жене, детях и всех родственниках, о которых удалось узнать. Тем более, что многих из них тоже оклеветали. Женился Алексей Самуилович поздно, ему было уже 45 лет, на двадцатилетней Лее (Юлии) Сталинской. В то время такая разница в возрасте была в порядке вещей. Л. Сталинская приехала в Николаев заключать контракты на поставку леса для строительства кораблей. Лея – дочь владельца гостиницы в Могилеве, по национальности – еврейка. Для многих, это как красная тряпка для быка. Сначала Лея Сталинская стала, как бы сейчас сказали, гражданской женой Грейга. Брак был заключен позже, и свидетельство о нем есть. А вот тут гложат сомнения. Лея появилась в 1820 году, старший сын появился в 1825 году. Вопрос: либо до заключения официального брака они не были сожителями (как писали), либо она не могла 4 года забеременить? Но, что только не говорили, что только не писали по этому поводу «писатели», какой только грязью не обливали, вырывая из переписки, где она упоминалась, фразы и вставляя их куда угодно по собственному произволу.
Заметим на руке Юлии Михайловны браслет с портретом мужа и, главное, – кольцо на пальце. Ю. М. Грейг была верной и любящей женой.

Вроде всё ничего. Вот только смущает фраза: «официально признали женой в 1873 году»[51]. Да и что такое «экономка-содержанка»: либо то, либо другое. Кто признал? «Высший свет?». Вообще-то есть документ с датой бракосочетания: 30 ноября 1824 года. Ф. Ф. Вигель, не одобрявший этот брак, тем не менее писал, что Юлия Михайловна, о происхождении которой знал весь Новороссийский край, была одной из двух красавец-дочерей владельца гостиницы в Могилеве: «В Новороссийском краю все знали, что у Грейга есть любовница-жидовка и что мало-помалу, одна за другой, все жены служащих черноморским флотом и людей его окружающих, начали к ней ездить, как бы к законной супруге адмирала, только не по доброй воле, а по требованию Грейга». Классическая подтасовка Шигина в том, что перед словом «только» у Вигеля написано: «Проезжим она не показывалась, особенно пряталась от Воронцова и людей его…» Но смысл изменился кардинально, не правда ли? «Любопытство, насчет этой таинственной женщины было возбуждено до крайности, и оттого узнали в подробности все происшествия её прежней жизни, так же как Потоцкая, была она сначала служанкой в жидовской корчме под именем Леи или под простым названием Лейки. Она была красива, ловка и умением нравиться наживала деньги»[52]. Вообще-то, так называемая «корчма» – это семейное дело отца Леи и работала она на семью. О ней и Белле, сестрах «дивной красоты», вспоминал И. П. Липранди. «Могилевская Белла» вызывала восхищение приятеля А. С. Пушкина В. П. Горчакова: именно последний рассказал Пушкину о сестрах. И когда некто Шигин, в своей книге, пишет, что сказка Пушкина о старике, старухе и разбитом корыте – это о Юлии и Алексее Грейгах – это наглая ложь, потому, что сестры Лея и Белла послужили Александру Сергеевичу прообразом Дуни из «Станционного смотрителя». Липранди написал о самом Вигеле, что он «брался за перо… если был рассержен на советника, чиновника, показавшегося ему в обращении с ним не раболепствующим, тогда чернила его обращались в желчь и все попадающие под его перо беспощадно казнились. А вот если советник на неоднократное приглашение сесть, не исполнит этого или выйдет из коляски, не доезжая до его подъезда, тогда Ф.Ф. бывал в восторге, в своей тарелке… и тогда его перо изображало всё в розовом свете, что, впрочем, бывало очень редко, ибо он во всех думал видеть врагов своих, не ценителей его достоинств, его ума, в котором, конечно, никто ему не отказывает и не откажет». Очень интересную эпиграммку на Вигеля, самую знаменитую и приличную из всех неудобопечатаемых, написал С. А. Соболевский:
«Счастлив дом, а с ним и флигель, в коих, свинства не любя,Ах, Филипп Филиппыч Вигель, в шею выгнали тебя!В Петербурге, в Керчи, в Риге ль, нет нигде тебе житья:Ах, Филипп Филиппыч Вигель, тяжела судьба твоя!».7 января 1834 года Пушкин записал в своём дневнике: «вчера был он у меня – я люблю его разговор – он занимателен и делен, но всегда кончается толками о мужеложестве». Прочитав «Философское письмо» Чаадаева, Вигель опустился до доноса петербургскому митрополиту Серафиму. В 1836 году Вигель в частном письме высказывает мнение о «Ревизоре»: «Читали ли вы сию комедию? Видели ли вы её? Я ни то, ни другое, но сколько о ней слышал, что могу сказать, что издали она мне воняла. Автор выдумал какую-то Россию и в ней какой-то городок, в который свалил он все мерзости, которые изредка на поверхности настоящей России находишь, сколько накопил он плутней, подлостей, невежества. Я, который жил и служил в провинциях, смело называю это клеветой в пяти действиях [это не читая-то? – Н.К], а наша – то чернь хохочет…». Дальше круче: «…и нашим-то боярам и любо; все эти праздные трутни, которые далее Петербурга и Москвы России не знают… приобретают новое право презирать своё отечества… Говоря: «вот она Россия». Безумцы, я знаю автора – это юная Россия во всей её наглости и цинизме». Всё как всегда: не читал, но осуждаю! Страшная всё – таки вещь – зависть. Вигель умер в полном одиночестве, семьи он не имел, по понятным причинам, а о его порочных наклонностях, из-за которых он даже был удален со службы, известно всем. Вряд ли целесообразно приводить слова Вигеля о жене Грейга как истину в последней инстанции.
Продолжим о детях А. С. Грейга. В генеалогическом справочнике В. В. Руммеля и В. В. Голубцова отмечено, что в период с 1827 по 1835 год в семье Грейгов появились на свет три сына и три дочери. Но это не так. Кроме этих детей, был еще один сын, старший – Алексей[53], родившийся в 1825 году в Николаеве. О нем ничего не пишут, было даже предположение, что он сын Юлии Михайловны от первого брака, усыновленный Алексеем Самуиловичем, но документов об этом нет, поэтому домыслами заниматься не будем, да и дата рождения это опровергает. Возможно ли, что Алексей родился до заключения официального брака, тем более что тот же Шигин писал, что был заключен «тайный» брак в 1827 году? Шигин написал ложь. Брак Грейгов был заключен, как уже упоминалось, 30 ноября 1824 года, а документ об этом, выдан 20 августа 1833 года католической церковью (видимо, при отъезде из Николаева, а значит Алексей родился в законном браке, как и все остальные дети). Упомянутый Шигиным В.К Константин женившийся на польке (ставшей княгиней Лович), венчался вообще два раза: по католическому обряду и по православному, и ничего. Алексей Алексеевич Грейг родился в законном браке, как и все остальные дети… В архиве Николаева есть запись, что в 1827 году, в честь рождения первенца Самуила, Грейг заказал ученику Академии Художеств Р. Кузьмину, пансионеру Черноморского флота, проект павильона «Храм Весты». Очень скоро этот белокаменный павильон, посвященный Юлии Михайловне, как богине Весте – беспорочной деве и хранительнице домашнего очага, был сооружен в Диком саду.
Но тем не менее Алексей был! В метрической книге Кладбищенской церкви читаем: «Умер от тифа отставной подполковник Алексей Алексеевич Грейг 20.03.1876 г. в возрасте 53 лет». Если судить по этой записи, Алексей должен был родиться в 1823 году. Где ошибка – неизвестно, но в дальнейшем дата рождения будет достоверно установлена: 1825 год. После переезда в Петербург Алексей и Самуил Грейги были приняты в самое элитное учебное заведение России – Пажеский корпус. Запись об этом событии сохранилась в «СПб ведомостях» от 25 сентября 1840 года: «Пажеский Его Императорского Величества Корпус имеет честь известить родителей и родственников нижеперечисленных пажей, что на вакансии, открывшиеся ныне в Пажеском Корпусе, Государь Император Всемилостивише соизволил назначить следующих пажей, кандидатов сего Корпуса-по экстренной вакансии: экстерна Алексея Грейга и Самуила Грейга, сыновей адмирала». Учились обычно в корпусе 5 лет, но было еще два специализированных класса. Алексей отучился всего два года (выпущен в 1842 году), может потому, что Алексею при поступлении было уже 17. По окончании Пажеского корпуса его направили в конноартиллерийскую легкую № 4 батарею прапорщиком.



