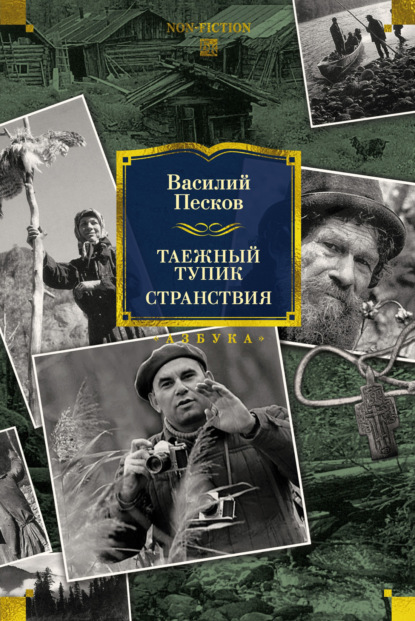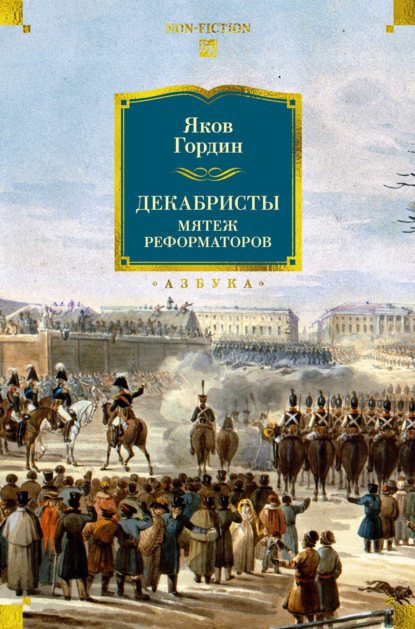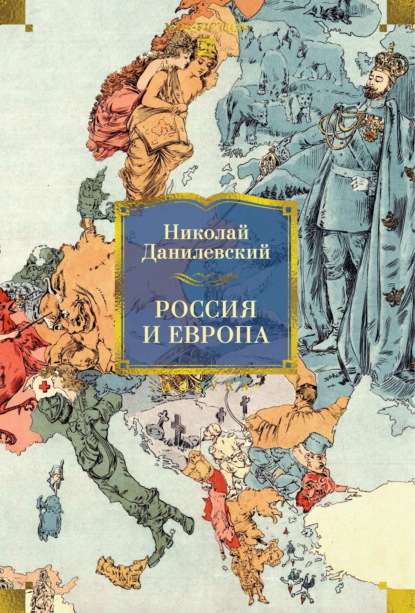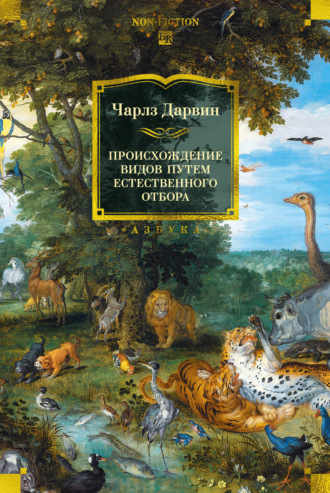
Полная версия
Происхождение видов путем естественного отбора
В 1826 году проф. Грант в заключительном параграфе своего известного исследования о Spongilla («Edinbourgh Philosophical Journal», т. XIV, с. 283) вполне определенно высказывает свое убеждение, что виды происходят от других видов и что по мере своего изменения они совершенствуются. То же воззрение им воспроизведено в его 55-й лекции, напечатанной в «Lancet» за 1834 год.
В 1831 году м-р Патрик Матью издал свой труд «О материале для кораблестроения и древоводстве», где высказывает воззрение на происхождение видов, совершенно сходное с тем (как сейчас увидим), которое было высказано м-ром Уоллесом и мною в «Linnean Journal» и подробно развито в настоящем томе. К несчастью, воззрение это было высказано м-ром Матью очень кратко, в форме отрывочных замечаний, в приложении к труду, посвященному совершенно иному вопросу, так что оно осталось незамеченным, пока сам м-р Матью не обратил на него внимание в «Gardners Chronicle» 7 апреля 1860 года. Различия между воззрениями м-ра Матью и моими несущественны: он, по-видимому, полагает, что мир от времени до времени совершенно лишался своего населения и заселялся вновь, и, в качестве возможного способа для образования новых существ, допускает, что они могли зарождаться, «не отливаясь в существовавшие уже формы и не происходя от существовавших уже зачаточных агрегатов». Я не уверен, вполне ли я понял некоторые места его книги, но кажется, что он придает большое значение непосредственному воздействию условий существования. Во всяком случае, он ясно усматривал все значение начала естественного отбора.

Христиан Леопольд фон Бух. Гравировальная мастерская L. Sachse & Co, Берлин, вторая половина XIX в.
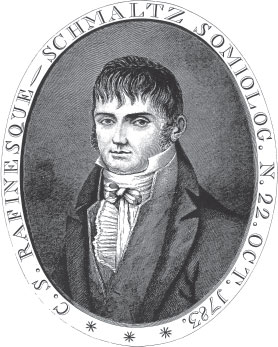
Константин Самюэль Рафинеск-Шмальц. Портрет с фронтисписа его книги «Analyse de la Nature», 1815. Художник не указан
Знаменитый геолог и натуралист фон Бух в своей превосходной книге «Description des Isles Canaries» (1836 г., с. 147) ясно выражает свое убеждение, что разновидности постепенно превращаются в постоянные виды, уже более не способные к скрещиванию.
Рафинеск в своей «Новой флоре Северной Америки», вышедшей в 1836 году, пишет (с. 6): «Все виды могли быть когда-то разновидностями, и многие разновидности постепенно превращаются в виды, приобретая исключительные и постоянные признаки», но добавляет далее (с. 18): «…за исключением оригинальных типов или предков каждого рода».
В 1843–1844 годах проф. Гольдман («Boston Journal of Nat. Hist.» U. States, vol. IV, p. 468) очень искусно сопоставил аргументы в пользу и против гипотезы превращения и развития видов; сам он, по-видимому, склоняется в ее пользу.
В 1844 году появились «Vestiges of Creation». В десятом и значительно исправленном издании этой книги (1853 год) анонимный автор говорит (с. 155): «На основании многочисленных соображений мы приходим к тому общему положению, что различные ряды живущих существ, начиная с простейших и древнейших и кончая высшими и позднейшими, действием промысла Божия являются:во-первых,результатом толчка, сообщенного живым существам и побуждающего их в определенные эпохи проходить через известные ступени организации, завершавшиеся двудольными и позвоночными, причем ступени эти были немногочисленны и отмечались скачками в организации, представляющими практические затруднения при установлении взаимного сходства формы, во-вторых,результатом другого толчка, находящегося в связи с жизненными силами, стремящимися в течение поколений изменять организацию соответственно внешним условиям, каковы пища, свойства местообитания и метеорологические условия. Эти последние изменения и составляют то, что в естественной теологии называют „приспособлениями“». По-видимому, автор полагает, что организация подвигалась вперед скачками, но что воздействие условий существования было постепенно. Он приводит весьма сильные доводы общего характера в пользу того, что виды не представляют неподвижных форм. Но я не вижу, каким образом два предполагаемых им «толчка» могут дать научное объяснение для многочисленных прекрасных приспособлений, встречаемых в природе. Я не думаю, чтобы этим путем мы могли подвинуться на один шаг в понимании, каким образом, например, дятел получил все приспособления, необходимые для его исключительного образа жизни. Книга эта, благодаря сильному и блестящему слогу и несмотря на некоторую неточность сообщаемых в первых изданиях сведений и недостаток научной осмотрительности, на первых же порах приобрела широкий круг читателей. По моему мнению, она оказала в этой стране существенную пользу, обратив всеобщее внимание на обсуждаемый в ней предмет, устранив закоренелые предрассудки и подготовив таким образом почву для принятия аналогичных воззрений.
В 1846 году ветеран-геолог Ж. Омалиус д’Аллуа в небольшой, но превосходной статье («Bulletin de l’Acad. Roy.», Bruxelles, t. XIII, p. 581) высказал мнение, что происхождение видов путем превращения из других форм гораздо вероятнее, чем происхождение их путем отдельных творческих актов; мнение это автор высказал в первый раз еще в 1831 году.
Проф. Оуэн в 1849 году («Nature of Limbs», p. 86) писал следующее: «Идея архетипов (archetypical idea) обнаружилась во плоти в разнообразных видоизменениях, существовавших на этой планете задолго до появления тех видов животных, в которых она появляется теперь. На какие естественные законы или вторичные причины возложены были правильная последовательность и развитие этих органических явлений, нам неизвестно». В своей президентской речи на заседании Британской ассоциации в 1858 году он упоминает (с. LI) об «аксиоме непрерывного действия творческой силы или предустановленного осуществления живых существ». Далее (с. ХС), касаясь географического распределения, он добавляет: «Явления эти заставляют нас усомниться в том, что английский красный тетерев и новозеландский аптерикс созданы исключительно для этих островов и на них». Да и вообще, не мешает никогда не терять из виду, что, прибегая к выражению «созданы», зоолог только обозначает этим «неизвестный ему процесс». Далее он подробнее развивает эту мысль, говоря, что во всех примерах, подобных красному тетереву, «перечисляемых как свидетельства в пользу предположения об отдельном создании птицы на известных островах и для их обитания, зоолог только желает высказать мысль, что не понимает, каким образом красный тетерев очутился там и исключительно там, где мы его встречаем; этим способом выражения, обнаруживающим его незнание, зоолог высказывает и свою уверенность в том, что и птица, и остров обязаны своим происхождением той же творческой первопричине». Если мы попытаемся истолковать себе эти две фразы, встречающиеся в той же речи, одну при помощи другой, то придем к заключению, что знаменитый ученый в 1858 году уже не был уверен в том, что аптерикс или красный тетерев появились впервые там, где они теперь находятся, «неизвестным образом» или благодаря «неизвестному ему процессу».
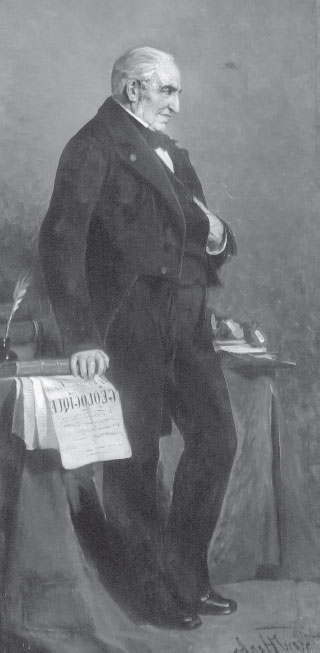
Жан-Батист Жюльен д’Омалиус д’Аллуа. Картина неизвестного художника, ок. 1850
Речь эта была произнесена уже после того, как записка м-ра Уоллеса и моя, о которых сейчас будет упомянуто, были прочтены в Линнеевском обществе. При появлении первого издания этой книги я наравне со многими другими был так глубоко введен в заблуждение выражением «непрерывное действие творческой силы», что включил проф. Оуэна вместе с другими палеонтологами в число ученых, глубоко убежденных в неподвижности видовых форм; но оказывается («Anat. of Vertebrates», vol. II, p. 796), что это была с моей стороны чудовищная ошибка. В последнем издании настоящего сочинения я высказал предположение, которое и теперь мне представляется верным, на основании места его книги, начинающегося словами: «Не подлежит сомнению, что типическая форма» и т. д. (Ibid., vol. I, p. XXXV), – что профессор Оуэн допускает, что естественный отбор мог играть некоторую роль в образовании видов; но и это предположение оказывается неверным и бездоказательным (Ibid., vol. III, p. 798). Приводил я также выдержки переписки между проф. Оуэном и издателем «London Review», из которой этому издателю, так же как и мне, представлялось очевидным, что проф. Оуэн отстаивал свое право на первенство в деле распространения учения о естественном отборе ранее меня. Я выразил свое удивление и удовольствие по поводу этого заявления; но насколько можно понять из нескольких мест новейших трудов (Ibid., vol. III, p. 798), я снова, отчасти или вполне, введен в заблуждение. Могу утешаться только мыслью, что не я один, а и другие люди находят эти полемические произведения проф. Оуэна малопонятными и трудно между собой примиримыми. Что же касается до простого провозглашения начала естественного отбора, то совершенно несущественно, предупредил ли меня проф. Оуэн или нет, так как из приведенного исторического очерка очевидно, что Уэллс и м-р Матью опередили нас обоих.
Исидор Жоффруа Сент-Илер в своих лекциях, читанных в 1850 году (извлечение из которых появилось в «Revue et Mag. de Zoologie», Janv. 1851), приводит вкратце основания, заставляющие его принимать, что видовые признаки «sont fixés pour chaque espéce, tant qu’elle se perpétue au milieu des mêmes circonstances: ils se modifient, si les circonstances ambiantes viennent à changer». «En résumé l’observation des animaux sauvages démontre déjà la variabilité limitée des espéces. Les expériences sur les animaux domestiques redevenus sauvages la démontrent plus clairement encore. Ces mêmes, expériences prouvent, de plus, que les différences produites peuvent être de valeur générique»[12]. В своей «Hist. Nat. Générale» (t. II, p. 430, 1589 г.) он развивает подробнее совершенно аналогичные выводы.
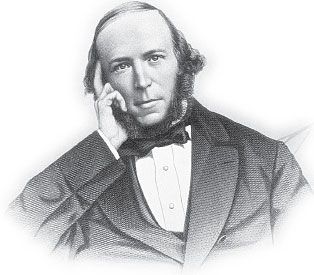
Герберт Спенсер. Литография Джорджа Перрина, ок. 1850
Из циркуляра, недавно выпущенного д-ром Фреком, оказывается, что в 1851 году («Dublin Medical Press», p. 322) он развивал учение о происхождении всех органических существ от одной первобытной формы. Его основные убеждения и дальнейшее развитие предмета коренным образом отличаются от моих; и так как д-р Фрек теперь (в 1861 году) сам издал свой очерк «Происхождение видов путем органического сродства», то с моей стороны было бы излишним предпринимать трудную задачу изложения его идей.
Герберт Спенсер в очерке (первоначально появившемся в «Leader» за март 1852 года и перепечатанном в его «Essays» в 1858 году) с замечательной силой и искусством сопоставляет теории творения и развития органических существ. Исходя из аналогии с домашними животными и культурными растениями, из тех превращений, которые претерпевают зародыши многих видов, из тех затруднений, которые испытываются при различении видов и разновидностей и из начала общей постепенности, – он заключает, что виды изменялись, и приписывает их изменение изменению условий существования. Тот же автор (1855 год) изложил психологию, исходя из начала неизбежности постепенного приобретения всех умственных свойств и способностей.
В 1852 году известный ботаник Ноден в превосходной статье о происхождении видов («Revue Horticole», p. 102; позднее отчасти перепечатанной в «Nouvelles Archives du Muséum», t. 1, p. 171) высказал свое убеждение, что виды образуются способом, аналогичным со способом образования культурных разновидностей, а этот последний процесс он приписывает практикуемому человеком искусству отбора. Но он не указывает, каким образом отбор может действовать в естественном состоянии. Подобно декану Герберту он полагает, что при своем первоначальном возникновении виды были более пластичны, чем теперь. Он придает большой вес тому, что он называет принципом конечной причины, «puissance mystérieuse, indéterminée; fatalité pour les uns, pour les autres, volonté providentielle, dont l’action incéssante sur les êtres vivants detérmine à toutes les époques de l’existence du monde la forme, le volume, et la durée de chacun d’eux, en raison de sa déstinée dans l’ordre des choses dont il fait partie. C’est cette puissance qui harmonise chaque membre à l’ensemble, en l’appropriant à la fonction qu’il doit remplir dans l’organisme général de la nature, fonction, qui est pour lui sa raison d’être»[13]
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Примечания
1
Каково было содержание этого богословия и почему оно произвело такое сильное впечатление на Дарвина, можно судить по следующему факту: около того же времени при составлении зоологического музея в Оксфорде руководились мыслью, что он мог бы служить наглядным пособием при изучении книги Палея (Пэли (Paley). –Ред.).
2
Генслоу,Джон Стивенс (1796–1861) – английский ботаник, геолог, профессор минералогии.
Седжвик,Адам (1785–1873) – британский ученый, один из основоположников современной геологии.
Уэвелл (Юэль), Уильям (William Whewell, фамилия в оригинальном произношении – Хьюэлл /hjuəl/; 1794–1866) – англиканский священник, философ, теолог, историк науки, энциклопедист.
3
Этим окончательно устраняется и всякое сомнение насчет его приоритета перед Уоллесом, который в это время был двадцатилетним землемером.
4
Речь о монографии «The Structure and Distribution of coral reefs» (Строение и расположение коралловых рифов, 1842)
5
«A monograph on the sub-class Cirripedia» (1854).
6
Подробности этого чуть ли не единственного в истории науки случая рассказаны мною в другом месте (см. «Первый юбилей дарвинизма»).
7
«My fellow creatures» – очевидно, Дарвин принцип братства распространяет не на одного только человека.
8
Аристотель в его «Physicae Auscultationes» (lib. 2, cap. 8, s. 2), после замечания, что дождь идет не затем, чтобы способствовать урожаю хлебов, точно так же как и не для того, чтобы испортить хлеб, который молотят не под навесом, применяет тот же аргумент и к организмам; он добавляет (как переводит это место Клэр Грэс, первый обративший на него внимание): «Что же мешает в природе различным частям (тела) находиться в таком же случайном отношении между собой? Зубы, например, растут по необходимости: передние – острыми и приспособленными к раздиранию пищи, а коренные – плоскими, пригодными для перетирания пищи, так как они не сотворены ради этого, а это было делом случая. Равным образом и в применении к другим частям, которые нам кажутся приспособленными к какой-нибудь цели. Таким образом, везде, где предметы, взятые в совокупности (так, например, части одного целого), представляются нам как бы сделанными ради чего-нибудь, они в действительности только сохранились, так как благодаря какому-то внутреннему стремлению оказались соответственно построенными; все же предметы, которые не оказались таким образом построенными, погибли и продолжают погибать». Мы здесь усматриваем как бы проблеск будущего начала естественного отбора; но как мало Аристотель понимал сущность этого начала, видно из его замечаний о зубах.
9
Я заимствовал дату первого труда Ламарка у Исидора Жоффруа Сент-Илера, представившего в своей книге (Hist. Nat. Générale, t. II, p. 405, 1859 г.) превосходный исторический очерк различных воззрений на этот предмет. В этом труде можно найти и полный очерк воззрений Бюффона. Любопытно, в каких широких размерах мой дед, Эразм Дарвин, в своей «Зоономии» (т. I, с. 500–510), появившейся в 1794 году, предвосхитил воззрения и ошибочные основания, которыми руководился Ламарк. По мнению Исидора Жоффруа, не подлежит сомнению, что Гёте был крайним сторонником сходных воззрений, как это вытекает из предисловия к труду, относящемуся к 1794 и 1795 годам, но напечатанному значительно позднее; он вполне определенно выражает мысль («Goethe als Naturforscher» Карла Мединга, с. 34), что в будущем натуралиста должен занимать вопрос, как приобрел рогатый скот свои рога, а не вопрос, на что они ему нужны. Замечательным примером того, как сходные идеи могут возникать одновременно, но совершенно независимо, служит факт, что Гёте в Германии, Дарвин в Англии и Жоффруа Сент-Илер (как сейчас увидим) во Франции пришли к тем же заключениям о происхождении видов в краткий промежуток 1794–1795 годов.
10
Окружающего мира(фр.). – Ред.
11
«Эту проблему надо целиком передать будущему, если только в будущем ею будут заниматься»(фр.). – Ред.
12
«Закреплены для каждого вида, пока он размножался при одних и тех же условиях, признаки изменяются, если окружающие условия начинают меняться». «В итоге наблюдение над дикими животными наглядно показывает ограниченную изменчивость видов, опыты над одичавшими домашними животными еще более ясно доказывают это положение. Больше того, эти самые опыты доказывают, что созданные различия могут быть родового значения». –Ред.
13
«Сила таинственная, неопределенная, рок для одних, для других – воля провидения, непрестанное действие которой на живые существа определяет во все эпохи существования мира форму, объем и долговечность каждого из них, сообразно его назначению в разряде вещей, часть которых он составляет. Эта именно сила приводит в соответствие каждого члена к целому, приспособляя его к той функции, какую он должен выполнять в общем организме природы, функции, являющейся для него смыслом его бытия»(фр.). – Ред.
На основании указаний Бронна, в его «Untersuchungen über die Entwickelungs-Gesetze», оказывается, что знаменитый ботаник и палеонтолог Унгер в 1852 году печатно высказывал свое убеждение, что виды изменяются и развиваются. Дальтон в общем исследовании Пандера и Дальтона над ископаемыми ленивцами высказал в 1821 году сходное убеждение. Подобные воззрения, как известно, высказывались и Океном в его мистической «Natur-Philosophie». На основании других ссылок, встречающихся в книге Годрон «De l’Espéce», оказывается, что Бори Сен-Венсен, Бурдах, Пуаре и Фрис допускали, что новые виды постоянно возникают вновь.