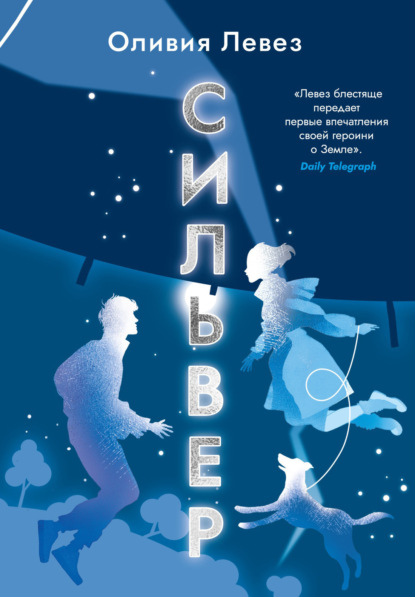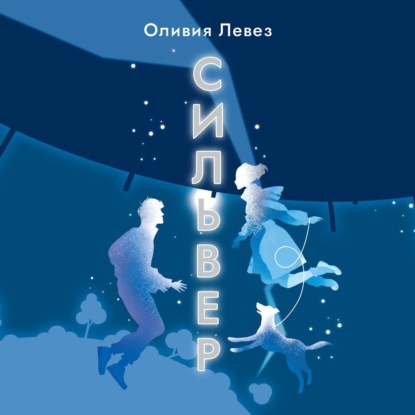Полная версия
Игра саламандры
Ничего не получается. Пабло раз за разом откусывает полоску скотча, но все время слишком короткую. Минуты бегут, и ситуация становится гротескной: Оливо в пижаме терпеливо ждет, когда ему заклеят рот, допросят, не поверят и сбросят вниз. Пабло потеет и плюется кусками скотча на террасу, хотя подразумевается, что терраса должна быть незаметным и тихим местом преступления.
– Давай сюда, я сделаю! – не выдерживает Октавиан. Он единственный из всех, кто, как полагает Оливо, обладает хоть каким-то чувством юмора.
Его челюсти за один раз отхватывают кусок скотча нужного размера, и вот уже рот у пленника заклеен. Покончив с этим, Октавиан мастерски заматывает ему запястья за спиной, освобождая Галуа от обязанности держать их.
Теперь Оливо в беспомощном состоянии: рот заклеен, руки связаны, – всего-то и требовалось (!); да, похитители нынче уже не те. Не знаю, понятно ли объясняю!
– Хочу знать, как ты обнаружил. – Вот наконец-то Мунджу может спросить.
Оливо смотрит на него в упор. Слабый луч света от фонаря, казалось, ломается об огромную бычью голову и шею Мунджо, очерчивая его массивный силуэт. По сути, в тусклом свете только он и выделялся черным пятном.
– Как ты узнал, где я прячу травку? – по-новому сформулировал свой вопрос Мунджу, думая, что Оливо не расслышал.
Он, конечно, слышал, но скотч…
– Может, сейчас-то как раз и не стоило заклеивать ему рот, – замечает Гага.
Остальные переглядываются. Нехорошо, когда самые недоразвитые указывают тебе на недостатки.
Мунджу протягивает свою огромнейшую лапу и срывает клейкую ленту. К счастью, у Оливо нет усов и бороды, если только не считать небольшой подростковый пушок над губой, – во всяком случае, он-то у меня есть; охренеть как больно!
– Про мои дела, – повторяет Мунджу в третий раз. – Как ты узнал?
– Я ничего не знал, – произносит Оливо. – Не я им рассказал. – И вот теперь у него остаются только шестьдесят восемь слов.
Мунджу берет его за плечо своей ручищей весом и размером с питона и толкает к краю террасы.
Остальные молча, змейкой тянутся следом, как дружеская компания, направляющаяся в Колизей[37], чтобы посмотреть на трагедию очередного несчастного – задранного львами, заколотого гладиатором или распоротого быком, – время идет, но какие были забавы, такие и остались. Не знаю, понятно ли объясняю.
Остановились.
Перед Оливо теперь распахнулось пространство высотой в два нижних этажа – полные девять метров, ведь речь идет о старом заводе. Внизу блестит мокрый цементный двор, готовый принять внушительный кряк его черепной коробки. Он сожалеет, что Гектор и Даниела найдут его завтра утром в этой пижаме, которую никто, кроме Азы, раньше на нем не видел, – кто знает, куда провалилась эта болтливая зараза именно сейчас, когда она так сильно нужна…
– Последнее предупреждение, – говорит Мунджу.
Все, что Оливо мог сказать, он сказал и теперь молчит.
Мунджу нагибается, словно хочет связать его ботинки. У Оливо, однако, ботинок нет, так что Мунджу хватает его за голые лодыжки и опрокидывает вниз в пустоту, словно вытряхивая за окно крошки со скатерти.
Оливо падает вниз головой метра на два и зависает.
Мунджу встряхивает его еще разок, давая понять, что может отпустить в любой момент. Все будет зависеть от того, что Оливо намерен рассказать. Хотя, вероятно, при любом раскладе он окажется внизу, но только после признания.
Оливо раскачивается, как маятник, повернутый лицом к окну второго этажа. А развернули бы его в другую сторону, Оливо увидел бы лес, отделяющий их от остального мира, и дорогу, которая пересекает лес, и каждый день по ней сюда приходят воспитатели, директриса, поставщики, ремонтники отопления, малочисленные родственники, навещающие и…
– И что теперь, взбалмошная голова? – слышит он шепот.
Моргнув, он вдруг видит совсем рядом со своим носом лицо Азы.
Она открыла окно и опирается на подоконник. Оливо не представляет, как она забралась в комнату Федерики и Гаги, но сейчас это кажется ему наименьшей проблемой.
– Скажешь или нет? – свысока поторапливает его низкий голос Мунджу. – У меня уже руки устали. Скоро придется тебя отпустить.
– Помоги мне! – тихо и коротко шепчет Оливо, чтобы не разбрасываться словами, которые, скорее всего, ему еще понадобятся.
– Что говоришь? – спрашивает Аза и, как всегда, нагло улыбается.
– Помоги мне, черт возьми! – немного громче шепчет Оливо, и у него остается шестьдесят пять слов.
– А-а-а! «Помоги мне»! Думаю, теперь идея про чуму и холеру тебе не кажется такой ужасной. Потому что, говоря по правде, не знаю, имеет ли смысл вообще спасать того, кто не слушает добрых советов. С точки зрения эволюции может быть нанесен урон прямо всему роду человеческому. Что скажешь?
Оливо качает головой. Утвердительный ответ занял бы слишком много слов, а те, что у него имелись, он уже почти все потратил днем с той… ладно, промолчу…
– Эй, смотри, я тебя слышу, любитель пармидзана! Итак, чего добиваемся? Мунджу сильный, но рано или поздно…
– Останови его!
Осталось шестьдесят восемь…
– Я? Останови сам! Достаточно сказать, как обстоят дела. Если все-таки предпочитаешь оказаться внизу, обещаю, что похороним тебя с твоими шестьюдесятью восемью словами в вентиляции, в душевой, в тесной пижаме и с шерстяной шапочкой на голове… Кстати, теперь понимаю, почему ты не снимаешь ее даже ночью. Всегда может случиться, что тебя похитят зимой и отнесут на террасу…
– О’кей, – кричит Оливо, – подними меня!
Мунджу отзывается, подтягивает его и швыряет, словно гусеницу, на щебенчатый пол террасы. Теперь, когда полет не состоялся, остальные отступают от края. Бесполезно высовываться, когда есть риск упасть.
– Говори, сволочь! – решает закрыть вопрос Мунджу.
Оливо садится, опираясь спиной о бордюр террасы. Важно не только принять достойное положение, но и разогнать кровь, прилившую к голове.
– Это Джессика, – произносит он.
Мунджу поднимает уголок рта. Это он так смеется. Потом оборачивается к остальным, они тоже смеются, включая Джессику, которая по этому случаю надела любимую пижамку и беретку с кошачьими ушками, украденную в каком-то торговом центре.
– Понимаю, что ты в отчаянии, – говорит Мунджу. Когда хочет, он умеет правильно говорить. – Но тебе не кажется, что обвинять мою девушку – хреновая затея?
Оливо не может не согласиться, и все же…
– Хотела послать тебя, – произносит.
– Послать меня? – усмехается Мунджу, обнажив широкие и редкие зубы, как у бегемота Hippopotamus amphibius. – Зачем ей хотеть, чтобы я ушел? – Фраза, конечно, сформулирована не очень грамотно, но чего ждать от того, кто до тринадцати лет жил, кое-как перебиваясь подачками вперемешку с жестокостью в подземельях Бухареста?
– Вчера, – говорит Оливо, – в зале.
– Что в зале?
– Ты спросил, новые ли у нее духи.
– Ну?!
– Это «Деним»[38], которые Октавиан купил ей два дня назад. Они только что встречались в трансформаторной будке. – И Оливо указывает на небольшую кирпичную будку на террасе. – Они занимаются этим там уже два месяца. Как раз над моей комнатой. Ключи прячут под первой деревянной ступенькой лестницы. Проверь.
Улыбка еще не сошла с лица Мунджу, но выражение глаз поменялось.
Он поворачивается и смотрит на остальных, не решивших еще, что делать: продолжать смеяться, убегать или сгребать не спеша щебенку с пола террасы и бросать в Оливо, – нужно время, но ведь за пару минут хорошую работу не сделать! Не знаю, понятно ли объясняю!
– Любимый! – произносит Джессика. – Ты ведь не станешь всерьез воспринимать слова этого таракана! – Но по ее экранной улыбке пошли помехи. Октавиан между тем закурил – возможно, чтобы заглушить аромат лосьона после бритья.
– Первая ступенька, – повторяет Оливо, зная, что больше слов для аргументации у него нет.
Мунджу стремительно бросается к лестнице. Компания расступается. Он пролетает мимо, ни на кого не глядя.
Когда скрывается за дверью, на террасе повисает напряженная тишина.
Ему хватило бы нескольких секунд, чтобы пробежать двенадцать ступеней вниз, поднять последнюю доску и удостовериться, что ключей нет, – так, вероятно, думают все: после чего наконец-то сбросим вниз этого чертового Оливо, который и так слишком много времени отнял у нас с этой своей историей, и, вообще-то, уже довольно холодно, черт возьми!
Однако минуты идут, а Мунджу не возвращается.
Две. Три. Четыре.
Гага, Федерика и Пабло начинают переглядываться. Октавиан с каменным лицом курит. Джессика время от времени поглядывает на Оливо, при этом контролируя свои ногти со скрупулезностью мясника, который точит ножи.
– Я ухожу, – вдруг произносит Галуа.
Пабло и Гага другого и не ожидали, поэтому тоже разворачиваются и идут за ним. Остаются Октавиан, Джессика и Федерика.
– Мне шестнадцать, – говорит Джессика. – Знаешь, что это значит?
Оливо знает.
– Это значит, – тем не менее поясняет она, – что я остаюсь здесь как минимум еще на два года. Точно так же, как и ты. Это значит, что если раньше ты был в дерьме, то теперь в дерьме в двойном объеме! Удачи, лузер!
Она поворачивается в своей любимой пижамке и уходит в сопровождении Федерики – ведь настоящая подруга никогда не бросает в трудные минуты.
Последний, кто покидает сцену, – это Октавиан. Но прежде чем уйти, он с миллиметровой точностью щелчком пальцев запускает сигарету в Оливо, она приземляется тому прямо на живот. Гиена злобно смеется и исчезает.
Оливо, оставшись один, изучает образовавшуюся на пижаме дырочку от зажженной сигареты, которую ему не сразу удается сбросить с себя из-за испуга. Да это было и нелегко, если принять в расчет, что его руки связаны за спиной.
– Знаешь разницу между цианидом и мышьяком?
Оливо поворачивает голову. Аза, сидя на бордюре, напряженно вглядывается в сумрак ночи и раскачивает ногами в бездонной темноте.
– Цианида достаточно одной капли – и человек умирает, ничего не почувствовав, – говорит она. – Поэтому Гитлер, Геббельс и другие нацисты держали его всегда при себе в капсуле, готовой к употреблению. Они и приняли его, чтобы их не схватили живыми, – предусмотрительные сукины дети. Мышьяк же наоборот – совсем другая история. Принимая его каждый день в небольших дозах, можно спровоцировать пигментацию, кожные травмы, рак легких или желчного пузыря, диабет и сердечно-сосудистые заболевания. В результате от него тоже умирают, но очень медленно и болезненно.
Оливо не спускает глаз с пакета, который ему надевали на голову и который так и остался лежать на полу.
– Тебе как хотелось бы умереть: медленно от рук Джессики или лучше одним махом от рук Мунджу… – Умиротворенная, Аза разводит руками. – De gustibus![39]
Оливо мог бы прокричать ей в лицо, что именно она убедила его рассказать Мунджу про Джессику и Октавиана, об их плане выгнать Мунджу из приюта, потому что, пока он там находится, Джессике не хватило бы смелости бросить его. Но Оливо слишком обессилел, чтобы кричать.
И потом, у него оставалось всего три слова, которые он решил израсходовать так:
– Аза!
– А!
– Иди в жопу!
6
– Можно узнать, почему ты передумал?
Оливо оглядывается по сторонам: тот же кабинет и подоконник, на котором сидел воробей, и директриса в том же твидовом костюме, и комиссарша та же самая. Расстановка фигур на шахматной доске один в один: две женщины сидят у стола под красное дерево, и Гектор стоит за спиной. Но только вчера Оливо думал, что его съедят, как пешку, а сейчас он в этом уверен, но с дополнением – придется долго мучиться. По крайней мере, пока он не найдет способа по-быстрому уйти из приюта.
– Я бы сказал «нет», – отвечает он.
– Как хочешь, просто профессиональное любопытство. Директриса Атраче заранее прислала мне по электронке список с твоими требованиями. – Комиссарша достает из кармана кожаной куртки сложенный вчетверо бумажный листок и читает: – «Макароны со сливочным маслом и пармезаном – один или два раза в день (пармезан настоящий, не подделка). Как альтернатива – романеско, горох, камбала, чечевица, палтус и особой формы куски мясной вырезки. На завтрак – чай. В течение дня – минеральная вода. Никаких газированных напитков. Никаких сыров или молока, видеть их не желаю ни на столе, ни чтобы кто-то их ел при мне. Собственная комната. Шестьсот слов в день, начиная с пяти утра. Перевозка личных книг в место временного пребывания. Никаких вопросов о прошлом, шапочке, брюках, ботинках, отношениях, ощущениях и гигиенических привычках. Два дня в неделю проводить в библиотеке до ее закрытия. Тридцать пять евро наличными в неделю и карта букинистических магазинов района. Никаких требований обязательно использовать мобильник, телевизор, компьютер, микроволновку и другое электронное оборудование».
В кабинете директрисы раздается свист.
– Извините, – произносит она смущенно. – А что там по поводу отопления?
– Об этом, кстати, – вмешивается Гектор, – возможно, Оливо забыл уточнить, но в его комнате не должно быть никакого отопления. Или я ошибаюсь, Оливо?
Оливо согласно кивает.
Комиссарша тянется за ручкой к стакану для карандашей. Взяв ее, подцепила и фантик от чупа-чупса, засунутый туда Оливо днем ранее. Директриса уже хотела извиниться, что в кабинете не убирали, но комиссарша не дала ей даже начать.
– «Никакого отопления в комнате», – говорит она, дописывая фразу внизу страницы договора, затем поворачивает лист к Оливо, чтобы он прочитал. Он смотрит в договор, затем на фантик от чупа-чупса, потом снова в договор.
Комиссарша вздыхает и поворачивает лист к себе:
– Сколько?
– Пять в день, – отвечает Оливо.
– Пять чупа-чупсов в день, – пишет Соня Спирлари. – Теперь можем подписывать? У нас еще много дел до вечера.
Оливо достает из кармана брюк свой твердый карандаш Н3 и под закорючкой комиссарши пишет печатными буквами: «ОЛИВО ДЕПЕРО».
Она берет у него бумагу и проверяет.
– Разве не знаешь, что нельзя подписывать официальные документы простым карандашом и печатными буквами? Предупреждаю тебя на будущее, – улыбается она. – Я могла бы подделать договор и сократить количество чупа-чупсов до четырех!
Директриса смеется, в то время как Оливо по-прежнему с обычным равнодушием неподвижно смотрит на комиссаршу Спирлари.
– О’кей, симпатяга, пойдем уже! – говорит она, взяв под мышку его личное дело, куда только что вложила их договор. – Спорим, мы с тобой здорово развлечемся!
В какой-то момент, уже во дворе, Гектор замедляет шаг, чтобы немного отстать. Оливо замечает это и делает то же самое. Комиссарша, подойдя к своему «рено-каптур», обнаруживает, что осталась одна: те двое стоят метрах в десяти от нее.
Соня смотрит на них, затем садится в машину и заводит мотор, давая понять таким образом: «Прощайтесь, и побыстрее».
– Уверен? – спрашивает Гектор.
Взгляд Оливо устремлен наверх, на террасу, с которой еще несколько часов назад он висел вниз головой, болтаясь в воздухе, удерживаемый только руками и доброй волей Мунджу, – уверен, что не хочу расплющиться об асфальт, свалившись с девяти метров в своей тесной пижаме; вот в этом сейчас, чувствую, я точно уверен.
– Да. – Оливо ограничивается кратким ответом.
– О’кей, однако будь осторожен, понял? Эта комиссарша мне совсем не нравится. Похоже, она из тех, кто ни с чем не считается ради достижения желаемого результата. У таких, как она, цель всегда оправдывает средства. Я подобных деятельниц много повидал и знаю: тому, кто рядом с ними, не позавидуешь.
– Ну, может быть, в данных обстоятельствах она права.
Гектор достает из кармана табак. Он всегда так делает, когда в непростой ситуации вынужден подбирать слова.
– Да, в этот раз, возможно, она права, – признает он, выкладывая табак на бумажку и скручивая своими крупными пальцами сигарету. – Но если попадешь в неприятности или почувствуешь сильное давление, звони мне – и через час уже будешь здесь, понял?
– Угу, – мычит Оливо. – В эту минуту мои представления о безопасности совсем не связаны с пребыванием в комнате, расположенной в двадцати метрах от логова Джессики и Октавиана, дорогой Гектор. Не знаю, понятно ли объясняю.
– Обещаешь?
Гектор зажигает сигарету.
– Что?
– Что будешь звонить мне постоянно, не сбежишь и не исчезнешь еще на два года?
– Угу, – соглашается Оливо.
– Хорошо, тогда иду в твою комнату и начинаю складывать книги в коробки. Завтра отправлю их на «берлинго»[40] – я ведь говорил, что в приюте всегда имеется по необходимости одна из этих больших машин – минивэнов…
Соня Спирлари включила дворники на «рено», хотя дождя нет. Это сигнал – время вышло.
– Никаких объятий, да? – произносит Гектор.
Оливо кивает.
– О’кей, будем считать, что обнялись. Теперь иди и отыщи этих ребят. Мы все болеем за тебя.
Оливо закидывает мешок с вещами за плечи и уходит.
Авто комиссарши цвета голубой металлик, молодежное, спортивное.
Прежде чем сесть в машину, Оливо бросает прощальный взгляд на приют, служивший ему домом последние семь месяцев: желтые стены, кирпичная заводская труба, терраса, с которой едва не упал вчера, и трансформаторная будка, где бог знает сколько уже лет воспитанники приюта прячутся, когда хотят курить, целоваться, делать татуировки, сидеть на игле или трахаться.
В одном из окон первого этажа он различает огромную голову Мунджу.
Они смотрят друг на друга.
Сегодня утром Оливо видел сумки за его дверью и подумал, что Мунджу попросил ускорить переезд в ту квартиру, о которой рассказывал Гектор.
Оливо впервые посочувствовал ему.
– Ну, едем? – позвала комиссарша.
Оливо садится и закрывает дверцу. Когда машина трогается, Мунджу опускает занавеску в комнате и скрывается из виду.
Оливо знает: никто из них двоих – по той или иной причине – больше не переступит порог этого заведения.
7
Двадцать минут машина едет по сельской местности мимо небольших, совершенно одинаковых поселений. Соня Спирлари включает магнитолу, но так тихо, что звук мотора перекрывает даже рекламные ролики. Насчет предстоящих дел ни слова, ни полслова. Никакой информации о том, что будет происходить дальше.
Странно, думает Оливо поначалу, но потом, откинувшись на сиденье, принимается разглядывать в окно все еще зимний пейзаж, – она собирается с мыслями; ну что ж, пока собака спит – не кусает, так зачем будить ее. Не знаю, понятно ли объясняю.
Машина у Сони до жути грязная: пыль на приборном щитке, пыль на сиденьях, пыль в дверных кармашках и на ручках. На дне салона не лучше: какие-то крошки, бумажки, рваные упаковки от карамели и чипсов и повсюду фантики от чупа-чупсов.
Тут завалялась даже просроченная штрафная квитанция – за парковку на месте для инвалидов, – лежит рядом с рычагом переключения коробки передач. Стоило тронуться, как из-под сиденья выкатилась полупустая бутылка с водой и теперь то и дело стучит по ботинкам Оливо, болтаясь по коврику туда-сюда, туда-сюда, туда-сюда…
– Не спросишь меня ни о чем? – неожиданно произносит Соня Спирлари, когда показались первые городские многоэтажки.
Оливо молчит.
– Куда едем? Где будешь спать? С кем, кроме меня, придется иметь дело? Ничего не хочешь узнать? – И нажимает на прикуриватель. – Не хочешь – не надо, твое право! Выпытывать не буду! Однако я все-таки чувствую своим долгом проинформировать тебя, ты ведь не задержанный.
– Угу.
– Судья, уполномоченный дать разрешение на проведение этой операции, которая выходит за рамки положенных правил, временно назначил меня твоим опекуном. На этом основании ты будешь жить в моей квартире – по крайней мере, до тех пор, пока не распутаем наше дело. У меня есть свободная комната для тебя, так что спотыкаться друг о друга не будем, если это тебя волнует. Скоро приедем, и я все тебе покажу, поужинаем, а потом придет мой заместитель, Флавио, и мы расскажем обо всем, что у нас есть. Вопросы?
Оливо видит, как отщелкнул прикуриватель.
– Можно попросить вас не курить? Пожалуйста.
– О’кей, если тебе неприятно, я не буду. – Соня убирает сигарету в пачку. – В кармашке дверцы лежит флешка с музыкой. Какая тебе нравится? Рок, рэп, итальянская эстрада? Есть даже что-то из инди, хотя я не знаю, что это такое.
– Можем не включать музыку? Пожалуйста.
– О’кей, никакой музыки, согласна. Однако не хочу, чтобы потом ты предъявил мне, что я как бы не предложила!
– Можете соблюдать субординацию, пожалуйста?
Соня Спирлари всматривается в трехполосное шоссе, ведущее в центр.
– Без обид, но начинаю понимать, что имеется в виду в твоем личном деле под словами «поведение стереотипное, монотонное и лишенное эмпатии[41], что создает значительные трудности во взаимоотношениях с окружающими».
– Сегодня вечером мне придется говорить?
– В каком смысле?
– У меня сто сорок шесть слов. Хочу знать, придется ли использовать больше.
– Ну сколько-то, возможно, придется.
– Тогда я не могу потратить их, объясняя вам, что перечисленные симптомы характерны аутизму и ко мне не имеют совершенно никакого отношения. И потом, на перекрестке вам следует повернуть налево.
Соня Спирлари бросает взгляд на него:
– Откуда ты знаешь, куда мне поворачивать, чтобы попасть к себе домой?
– Прочитал адрес на штрафной квитанции, которую вы не оплатили.
– Если так хорошо знаешь Турин, значит ты уже жил здесь! – улыбается Соня и говорит теперь как человек, поймавший собеседника на лжи.
– Я читал книги о городе и изучал карты в библиотеке.
– Турина?
– Разных городов. А теперь поворачивайте направо.
Соня Спирлари включает поворотник и откидывает назад волосы – это ее типичный жест, когда не может закурить, а главное – высказать все, что думает на самом деле.
– Цифры считаются? – спрашивает.
– Угу.
– В том смысле, что считаются так же, как и слова?
– Угу.
– А «угу»?
– Нет.
– Я поняла. Ну вот мы и приехали.
Соня Спирлари паркует «каптур» на разрешенной стоянке, заехав в карман лишь наполовину, берет с заднего сиденья сумку и выходит. Оливо следует за ней. Они прибыли в богатый и скучный квартал. Мало магазинов, много нотариальных контор и стоматологий. Дома бывшей знати, предлагающие лазерную депиляцию центры красоты, медклиники, винотеки, но никаких ломбардов и скупок золота или массажных китайских салонов, – кто этого не заметит, пусть первым бросит в меня камень. Не знаю, понятно ли объясняю.
Они входят в респектабельный дом, построенный в период фашизма[42] в стиле рационализма[43]. Поднимаются на лифте на четвертый этаж.
– У меня небольшой беспорядок. Как ты уже догадался, я совсем не домохозяйка.
– Угу. – Оливо, раздраженный теснотой в лифте, упрямо смотрит в пол и исключительно под ноги. – На самом деле из того, что я уже увидел в машине, думаю, меня ждет поле боя Первой мировой: с мертвыми лошадьми, колючей проволокой и плавающими над трупами по воздуху облаками отравляющих газов. Не знаю, понятно ли объясняю.
Соня открывает бронированную входную дверь. Красивая, изысканно-богатая квартира, но выглядела бы лучше, если бы так дьявольски не воняло куревом и не было этого беспорядка, разметанного с завидным старанием по всем углам.
– Бросай свои вещи сюда, на диван, и осмотрись немного, – говорит она. – Я быстро в душ и потом поговорим.
Соня Спирлари скрывается в своей комнате, затем появляется с охапкой вещей, заходит в ванную и закрывает дверь на ключ. Слышен звук льющейся в ванну воды и какой-то шансон, включенный на полную громкость, – да, здесь все затянется надолго. Не знаю, понятно ли объясняю.
Оливо кладет мешок с вещами у входа и почесывает нос. Не знает, разуваться ли ему. Судя по тому, как липнут к чему-то подошвы ботинок, нет смысла.
Делает пару шагов и заглядывает в гостиную: огромный телевизор, диваны, картины современных художников, старое пианино. Обстановка с чувством и толком – в стиле северной Европы, и такой хаос – в стиле Сони Спирлари, в особенности на большом столе – грязном и запущенном.
Ему хочется пить. Находит кухню. Красивая, дорогая и тоже грязная.
Пьет из крана, потому что ему так нравится, да и в любом случае он не дотронулся бы до бокалов на полке: они все заляпаны следами пальцев и губной помады. На столе – открытая бутылка красного вина. Судя по запаху, стоит здесь уже несколько дней, – холодильник, если уж на то пошло, мог бы стать одним из залов Египетского музея[44]. Не знаю, понятно ли объясняю.
Звонок в дверь.
Оливо замирает, словно кто-то поймал его за руку, когда он тащил кошелек из чужого кармана.