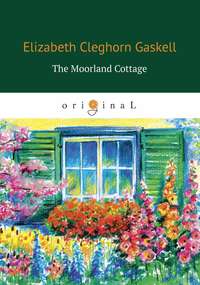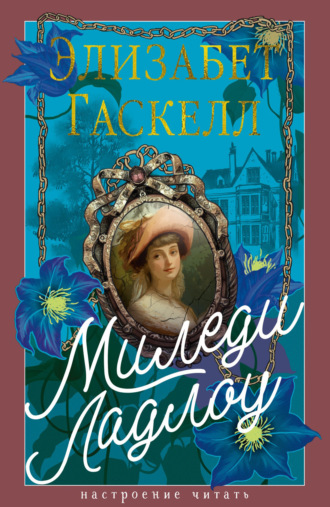
Полная версия
Миледи Ладлоу
Несмотря на удобство моего кресла, в тот первый день (да и в последующие, пока все было внове для меня) я чувствовала себя довольно скованно. Однако надоедливая боль, из-за которой я постоянно пребывала в унынии, сама собой утихла, как только мы принялись извлекать из ящиков старинного бюро разные курьезные вещицы. Многие из них вызывали у меня немое изумление: зачем нужно было их сохранять? Скажем, какой-нибудь клочок бумаги с десятком написанных на нем обычных, незначительных слов, или обломок хлыстика для верховой езды, или невзрачный камень – таких камней я могла бы набрать целый кулек во время любой прогулки. Теперь я понимаю, что во мне говорило невежество. Ведь то были куски драгоценного мрамора, объяснила миледи, из которого выкладывались полы во дворцах римских императоров. Давным-давно, когда она была еще молоденькой девушкой и совершала большое путешествие по континентальной Европе, ее родственник, сэр Хорас Манн, тогдашний не то посол, не то посланник во Флоренции[33], советовал ей сходить на поля, где крестьяне расчищали почву под посадку лука, и собрать все, какие попадутся, кусочки мрамора. Она послушалась его и собранный мрамор хотела отдать в работу, чтобы ей сделали столешницу, да так и не отдала – камни, облепленные грязью с луковых полей, многие годы лежали в ящиках бюро. Однажды я предложила вымыть их с мылом, но миледи сказала: ни в коем случае, ведь это «земля Рима», хотя, по-моему, грязь – она и есть грязь.
А вот ценность других реликвий мне не нужно было объяснять. Я имею в виду локоны волос (при каждом имелась аккуратная памятная записочка), на которые миледи всегда смотрела с великой печалью; или же медальоны и браслеты с миниатюрными портретами – действительно крошечными в сравнении с теми, какие делают в наши дни, оттого их по праву называли миниатюрами: иногда, чтобы разглядеть выражение лица или отдать должное искусству живописца, требовалось вооружиться микроскопом. Мне кажется, маленькие эмалевые портреты не отзывались в душе миледи такой неизбывной болью, как упомянутые локоны волос. Оно и понятно, ведь волосы – частичка настоящей материи, оставшаяся от некогда живых и горячо любимых существ, к которым более уже не прикоснешься, которых нельзя ни обнять, ни приласкать, ибо они давно лежат в земле, обезображенные, неузнаваемые, – за исключением, может быть, волос, тех же самых, что в ее скорбной коллекции. В конце концов, портреты – всего лишь картинки, и люди на них ненастоящие, при всем внешнем сходстве с оригиналом. Спешу оговориться, что это мои собственные домыслы: миледи редко высказывала свои чувства. Во-первых, она принадлежала к титулованной знати, а люди ее круга, по ее же словам, говорят о своих чувствах только с равными себе, да и то лишь в особых случаях. Во-вторых (и здесь я вновь хочу поделиться с вами собственными размышлениями), она была единственным ребенком в семье, наследницей солидного состояния, и потому приучила себя больше думать, нежели говорить, как и подобает всякой хорошо воспитанной наследнице. В-третьих, она намного пережила своего мужа, и в годы ее вдовства рядом с ней не было близкого человека одних с нею лет, с которым ее связывали бы общие воспоминания, минувшие радости и печали. Дольше других при ней состояла миссис Медликотт, в некотором роде ее подруга; к миссис Медликотт миледи обращалась почти по-родственному и чаще, чем ко всем прочим домочадцам, вместе взятым. Но та была по природе молчалива и не расположена к пространным ответам. В итоге больше других с леди Ладлоу разговаривала горничная Адамс.
Проведя со мной около часа за разбором вещей в бюро, миледи объявила, что на сегодня наша работа окончена; к тому же подошло время ее ежедневной прогулки в карете. Она оставила меня одну, а чтобы я не скучала, возле моего кресла по одну руку лежал том гравюр с картин мистера Хогарта[34] (не рискну приводить их названия, хотя миледи определенно не видела в них ничего зазорного), а по другую, на аналое, – ее огромный молитвенник, раскрытый на вечерних псалмах для чтения в тот день. Мельком взглянув на приготовленные для меня книги, я нашла себе иное развлечение и начала с любопытством осматривать комнату. Стена с камином была вся обшита дубовыми панелями, уцелевшими от старого убранства дома, тогда как другие стены были оклеены расписными индийскими обоями с изображениями птиц, зверей и насекомых. На панелях и даже на потолке теснились гербы различных семейств, с которыми Хэнбери породнились через брак. Интересно, что в комнате почти не видно было зеркал, а между тем прапрадед миледи, служивший послом в Венеции, привез оттуда множество зеркальных пластин, и одна из парадных гостиных, богато отделанная зеркалами, так и называлась – Зеркальная зала. Зато в изобилии имелись фарфоровые вазы всех форм и размеров, как и фарфоровые чудища, или божки, на которых я не могла смотреть без содрогания, хотя миледи, кажется, чрезвычайно ими дорожила. Срединная часть узорного паркета, набранного из дерева редких пород, была покрыта толстым ковром; двери располагались одна против другой и состояли из двух тяжелых створок, разъезжавшихся в стороны по вделанным в пол медным желобам (ковер не позволял установить обычные распашные двери). В комнате было два высоких, почти под потолок, но очень узких окна, и под каждым имелась глубокая ниша с сиденьем. В воздухе разливалось благоухание – частично от цветов за окнами, частично от стоявших внутри огромных ваз-ароматниц, называемых «попурри». Миледи очень гордилась своим умением подбирать ароматы. Ничто так не выдает породу, как тонкое обоняние, уверяла она. При ней мы никогда не упоминали о мускусе: все в доме знали о ее отвращении к этому запаху и о том, что за неприязнью к нему скрывалась целая теория, будто бы всякий аромат животного происхождения не обладает изысканной чистотой и не может доставить удовольствие человеку благородной крови, потому что в его семье из поколения в поколение прививалась тонкость чувств. Посмотрите, говорила она, как охотники выводят породу собак с особо острым нюхом и как эта способность передается от одного поколения животных к другому; не станем же мы подозревать собак с чутким носом в фамильной спеси и похвальбе потомственными привилегиями: наследственный дар – не фантазия! Так вот, в Хэнбери-Корте о мускусе никто не заикался. Под запретом были также бергамот[35] и полынь, несмотря на свою несомненно растительную природу. Два этих запаха миледи считала вульгарными. Если она приглядывалась к молодому человеку – скажем, узнав, что тот сватается к ее служанке, – и видела, как он в воскресенье выходит из церкви с веточкой одного из упомянутых растений в петлице[36], лицо ее омрачалось. Ей уже чудился любитель грубых удовольствий; я даже не исключаю, что из любви к острым ароматам миледи делала вывод о наклонности к пьянству. Однако вульгарные запахи не следовало путать с банальными. К банальным ею относились фиалка, гвоздика, шиповник, а также роза и резеда (в саду на клумбе) или жимолость (в тенистых аллеях). Украсить свое платье любым из этих цветков вовсе не означало проявить дурновкусие; сама королева, восседая на троне, возможно, не отказалась бы приколоть себе на грудь душистый букетик. В пору цветения гвоздик и роз каждое утро на стол миледи ставили вазу со свежими цветами. Среди наиболее стойких запахов миледи отдавала предпочтение лаванде и медовнику – в виде натуральных сухих смесей, а не готовых экстрактов. Лаванда напоминала ей о старых обычаях, о скромных деревенских палисадниках и их хозяевах, которые с поклоном подносили ей синие пучки лаванды. Медовник же рос в дикой природе, на лесистых склонах с легкой почвой и чистым воздухом. Дети бедняков ходили собирать для миледи это растение и за свои труды всегда получали от нее блестящие новенькие пенни; каждый год в феврале милорд, ее сын, присылал ей мешочек пенни, только что отчеканенных на лондонском монетном дворе.
Розовое масло миледи с трудом выносила: оно ассоциировалось у нее с лондонским Сити и купчихами – чересчур приторный, навязчивый, тяжелый запах. По той же причине она не жаловала ландыши. С виду ландыш бесспорно прекрасен (миледи никогда не скрывала своего восхищения), в нем все изысканно – цвет, форма… все, кроме запаха. Слишком крепок! Великая наследственная способность, которой так гордилась миледи – и гордилась не зря, ибо я ни у кого больше не наблюдала столь тонко развитого обоняния, – наглядно обнаруживалась в том, что миледи могла своим чутким носом уловить нежнейшую ноту аромата, поднимавшегося от грядки садовой земляники поздней осенью, когда листья сохнут и отмирают. Одной из немногих книг в комнате миледи был томик Бэконовых «Опытов»; и если бы вам вздумалось взять его в руки и раскрыть наугад, вы непременно попали бы на эссе о садах[37].
– Послушайте, – говорила, бывало, миледи, – что пишет великий философ и государственный муж. «За ней, – (чуть выше он упоминает фиалку, моя милая), – можно назвать розу моховую…» Помните тот большой куст на углу южной стены, под окнами Голубой гостиной? Это и есть моховая, или мускусная, роза, прозванная еще розой Шекспира[38]; ныне она почти перевелась в нашем королевстве. Но вернемся к лорду Бэкону: «…и земляничный лист, который пахнет особенно сладко, когда увядает»[39]. Так вот, представители рода Хэнбери всегда умеют распознать этот упоительный, нежный, сладостно свежий земляничный дух. Видите ли, во времена лорда Бэкона не заключалось столько браков между королевским двором и Сити, как в последующие, начиная с правления его величества Карла Второго, который вечно страдал от нехватки денег. Но в эпоху королевы Елизаветы[40] родовая английская знать была еще совершенно отдельной людской породой; никто ведь не спорит, что ломовые лошади (пусть и очень полезные на своем месте) – не то же самое, что чистокровные Чилдерс или Эклипс[41], хотя все они принадлежат к одному виду животных. Точно так же те из нас, в ком течет славная древняя кровь, отличаются от прочих людей. Следующей осенью, моя милая, непременно испытайте себя – сможете ли вы услышать дивный аромат засыхающих листьев садовой земляники. Как-никак в ваших жилах есть толика крови Урсулы Хэнбери, и это дает вам надежду.
Но в октябре, сколько бы я ни принюхивалась, все было впустую, и миледи, не без волнения ожидавшая, чем закончится наш маленький опыт, отбраковала меня как негодный гибрид. Не скрою, я тяжело переживала свою неудачу, особенно когда миледи, словно для того, чтобы подчеркнуть свое превосходство, приказала садовнику посадить земляничную грядку у той стороны террасы, куда смотрели ее окна.
Но я опять перескакиваю с места на место, нарушая последовательность событий, по мере того как мне вспоминается то одно, то другое. Остается надеяться, что на старости лет я все же не уподобилась небезызвестной миссис Никльби с ее бессвязными речами![42] (Книжку про похождения мистера Никльби мне в детстве читали вслух.)
Мало-помалу я стала все дни проводить в будуаре миледи – иногда подолгу сидела в своем покойном кресле с каким-нибудь тонким шитьем для нее, или расставляла по вазам цветы, или раскладывала старые письма по разным стопкам в соответствии с почерком, чтобы затем миледи легче было навести в них порядок – какие уничтожить, а какие сохранить, – ввиду ее неминуемой смерти. Когда в комнате поставили диван, миледи нередко приказывала мне лечь и отдохнуть, если видела, что я внезапно побледнела. Еще я каждый день, превозмогая боль, совершала короткую прогулку по террасе – на этом настаивал доктор, и я подчинилась в угоду миледи.
Пока я своими глазами не увидела изнанку повседневной жизни гранд-дамы, жизнь эта рисовалась мне нескончаемой чередой забав и удовольствий. Не знаю, как другие титулованные особы, но миледи не терпела праздности. Начать с того, что она должна была постоянно вмешиваться в управление обширной вотчиной Хэнбери. В свое время имение было заложено, а вырученные за него деньги пошли на улучшение шотландских владений покойного милорда; однако миледи непременно желала выплатить долг по закладной, дабы после ее смерти Хэнбери-Корт без каких-либо обременений унаследовал ее сын, тогда уже носивший титул графа Хэнбери. Полагаю, в ее глазах сей титул (хотя и доставшийся ему по женской линии) весил больше, чем титул лорда Ладлоу вкупе с еще пятью или шестью другими, менее значимыми.
Для того чтобы освободить имение из залога, требовалось вести хозяйство умно и осмотрительно, и миледи, не жалея сил, старалась во все вникать сама. У нее имелся гроссбух с вертикально расчерченными страницами – на каждой по три столбца. В первый заносились дата и имя арендатора, обратившегося к ней с письмом по какому-то делу; во втором кратко излагалось содержание письма, которое обыкновенно сводилось к той или иной просьбе. Однако продираться к просьбе нужно было через такие дебри совершенно излишних слов, несусветных разъяснений и пустых оправданий, что управляющий мистер Хорнер недаром сравнивал это занятие с поиском иголки в стоге сена. Так вот, во втором столбце помещалась та самая «иголка», очищенная от словесной шелухи, и миледи, просматривая наутро свежие записи в гроссбухе, сразу могла ухватить суть обращения просителя. Иногда она требовала показать ей исходное письмо, иногда просто отвечала «да» или «нет»; нередко посылала за очками и документами, которые внимательно изучала вместе с мистером Хорнером на предмет соответствия некоторых просьб (к примеру, о разрешении вспахать пастбище) условиям договора аренды. По четвергам с четырех до шести часов пополудни она принимала арендаторов лично. Утренние часы больше устроили бы миледи, если говорить о ее персональном удобстве, и, насколько мне известно, в былые времена эти приемы (аудиенции на языке миледи) всегда происходили до полудня. На призывы мистера Хорнера вернуться к прежней практике миледи отвечала, что для фермера это означало бы потерять целый день, ведь ему нужно было бы прилично одеться и до обеда забыть про работу (у себя дома миледи желала видеть своих арендаторов одетыми как на праздник; возможно, она не проронила бы ни слова, просто медленно вынула бы очки, молча водрузила их на нос и смерила бедолагу в грязных обносках таким строгим, осуждающим взглядом, что надо было обладать поистине крепкими нервами, чтобы не вздрогнуть и не уразуметь в тот же миг: как ты ни беден, прежде чем в следующий раз показаться в приемной ее светлости, научись пользоваться водой и мылом, иголкой и ниткой). По четвергам для арендаторов из дальних мест в столовой для прислуги накрывали ужин, к которому приглашались и все иные приходящие. Хотя время дорого, говаривала миледи, и после беседы с ней у них остается не так уж много часов для работы, люди нуждаются в пище и отдыхе, и она сгорела бы со стыда, если бы за тем и другим они отправились в трактир «Атакующий лев» (ныне переименованный в «Герб Хэнбери»). За ужином арендаторы могли вдоволь пить пиво, а когда еда была убрана, перед каждым из сидевших за столом ставили кружку доброго эля и старший из них, встав с места, провозглашал тост за здоровье мадам. После эля гостям полагалось разойтись по домам; во всяком случае, других бодрящих напитков не подавали. Арендаторы называли миледи не иначе как «мадам»: для них она была в первую голову замужняя наследница владений и титула Хэнбери и только потом вдова лорда Ладлоу, о коем ни сами они, ни их предки ничего не знали; более того, имя покойного лорда вызывало у них глухое неодобрение, истинную причину которого сознавали лишь те немногие, кто понимал, что означало взять ссуду под залог имения и потратить деньги мадам на обогащение худых шотландских угодий милорда.
Я совершенно уверена – постоянно находясь, так сказать, за кулисами и пользуясь возможностью многое видеть и слышать, пока сама неподвижно сидела или лежала в комнате миледи, связанной открытыми в течение дня дверями с соседней приемной, где леди Ладлоу обсуждала дела с управляющим и давала аудиенции своим арендаторам, – так вот, повторю, я уверена, что мистер Хорнер про себя тоже досадовал на злосчастный залог, съедавший уйму денег. И вероятно, когда-то он все же высказал свои мысли миледи: в ее обращении с ним ощущался легкий холодок обиды, а в его покорной почтительности – признание вины, хотя временами его несогласие вновь прорывалось наружу; это случалось каждый раз, когда нужно было платить процент по закладной или когда миледи снова и снова отказывалась тратить деньги на свои личные потребности, что мистер Хорнер считал абсолютно необходимым и приличествующим ей как наследнице Хэнбери. Ее допотопные громоздкие экипажи не шли ни в какое сравнение с усовершенствованными повозками окрестных аристократов. Мистер Хорнер мечтал бы заказать наконец для миледи новую карету. Под стать экипажам были и лошади, уже выслужившие свой срок, а между тем лучшие жеребцы из конюшни миледи продавались за наличные. Ну и так далее. Милорд, ее сын, возглавлял посольство в какой-то иностранной державе, и мы все гордились его блестящими успехами, однако высокое положение предполагает большие расходы, и миледи скорее согласилась бы сесть на хлеб и воду, чем просить сына помочь ей выкупить поместье из заклада, притом что это было бы только в его интересах.
Я замечала, что со своим верным и неизменно почтительным управляющим миледи говорила иногда строже, чем с другими, угадывая, вероятно, его молчаливое несогласие с распределением доходов от родового имения Хэнбери – слишком дорого, на его взгляд, обходилось ей поддержание земель и статуса графа Ладлоу.
Покойный лорд, супруг миледи, был моряк и любил жить широко, как многие моряки, если верить слухам (сама я моря даже близко не видала), однако же и о выгоде своей не забывал. Так или нет, теперь не важно, – миледи любила его и чтила его память, всегда с теплотой отзываясь о муже, которого, без сомнения, высоко ставила.
Мистер Хорнер, родившийся в имении Хэнбери, поначалу служил стряпчим у одного поверенного в Бирмингеме и за несколько лет городской жизни многое понял в современном устройстве общества. И хотя все свои знания он употреблял исключительно на благо миледи, она инстинктивно противилась любым новым веяниям, а в некоторых сентенциях управляющего ей чудился отвратительный привкус торгашества и корысти. Думаю, она охотно вернулась бы к первобытной системе хозяйствования без всякого участия денег – жила бы тем, что производится на ее земле, а излишки продукции обменивала бы на другие необходимые вещи.
По выражению миледи, мистер Хорнер заразился новомодными воззрениями (нынче их, правда, сочли бы безнадежно устаревшими). Так или иначе, некоторые идеи мистера Грея произвели на ум мистера Хорнера действие, сравнимое с действием искр, упавших на паклю, несмотря на то что упомянутые джентльмены в своих рассуждениях двигались, так сказать, из разных отправных точек. Мистер Хорнер хотел, чтобы каждый живущий на этом свете был человеком полезным и деятельным и чтобы как можно больше полезной деятельности способствовало процветанию земель и рода Хэнбери. Вот почему он подхватил модный призыв к образованию.
Мистера Грея не слишком заботило (заботило слишком мало, по мнению мистера Хорнера), как обстоят дела на этом свете и какое положение тот или иной человек или семейство занимает в нашем земном мире; он желал приуготовить каждого к миру грядущему, для чего необходимо понять и принять определенные доктрины веры, а значит, человек должен хоть что-то знать об этих доктринах. Вот почему мистер Грей ратовал за образование. Мистер Хорнер всегда с волнением ждал от ребенка ответа на следующий вопрос из катехизиса: «В чем заключается твой долг перед твоим ближним?»[43] Тогда как мистер Грей больше всего хотел бы услышать прочувствованный ответ на вопрос: «Что такое внутренняя и духовная благодать?»[44] А леди Ладлоу, проверяя по воскресеньям наше знание катехизиса, особенно низко склоняла голову, когда звучал ответ на вопрос: «В чем заключается твой долг перед Богом?»[45] В ту пору, о которой я вам рассказываю, вопросы мистера Хорнера и мистера Грея чаще всего оставались без ответа.
Тогда в Хэнбери еще не было воскресной школы, и мистер Грей страстно желал исправить этот недостаток. Мистер Хорнер смотрел дальше: он надеялся, что в недалеком будущем здесь откроют полноценную общеобразовательную школу, которая готовила бы толковых работников для пользы имения. Миледи и слышать не хотела ни о какой школе; в ее присутствии даже отчаянный смельчак не посмел бы обмолвиться о подобных планах.
И мистер Хорнер решил тайком научить какого-нибудь способного, смышленого мальчика чтению и письму, чтобы со временем воспитать себе помощника. Из всех деревенских мальчишек самым подходящим для этой цели показался ему сын Джоба Грегсона, хотя из всех он был самый грязный и оборванный. Однако именно на него пал выбор мистера Хорнера. О затее своего управляющего миледи не ведала ни сном ни духом (она никогда не слушала сплетен, да и как бы она их услышала, если никто не смел первым заговорить с нею и только ждал ее вопросов), пока не случилось одно происшествие, о котором я вам сейчас и поведаю.
Глава четвертая
Итак, миледи не подозревала о взглядах мистера Хорнера на образование как способ превратить людей в полезных членов общества и еще меньше – о воплощении его взглядов на практике через избрание Гарри Грегсона своим учеником и протеже; скорее всего, до упомянутого выше досадного происшествия она понятия не имела о существовании Гарри. Теперь расскажу по порядку, как было дело.
В приемной, служившей своего рода конторой, где миледи вела деловые разговоры с управляющим и арендаторами, все стены были уставлены полками. Я сознательно не называю их книжными, хотя на них размещалось множество книг – по большей части рукописных, с разными записями, касавшимися владений Хэнбери. Книг в полном смысле слова было совсем немного: один-два словаря, географические справочники, руководства по управлению имениями – все очень давнего года издания. (Помню, что видела там словарь Бейли[46]; у миледи, в ее комнате, имелся также огромный словарь Джонсона, но, если мнения лексикографов расходились, она чаще отдавала предпочтение Бейли.)
В этой приемной обычно сидел лакей, готовый тотчас исполнить распоряжение миледи. Ее светлость твердо держалась старинных обычаев и любые «звонки», кроме своего ручного колокольчика, считала никчемным изобретением; прислуга должна была находиться поблизости, чтобы всегда слышать ее серебряный колокольчик – или серебряный звук ее голоса. Но не думайте, будто должность лакея была синекурой. Ему полагалось следить за вторым, задним, входом в дом, который в усадьбе попроще назывался бы черным ходом. А так как парадным крыльцом пользовалась только миледи и те из ее соседей по графству, кого она сама удостаивала визитами – ближайшие жили миль за восемь по скверной дороге, – большинство посетителей стучались в тяжелую дверь с коваными гвоздями, которая вела в дом с террасы; стучались не для того, чтобы им открыли (по приказу миледи дверь держали открытой и летом, и зимой, когда в прихожую наметало кучи снега), а для того, чтобы вышедшему на стук лакею передать свое сообщение или просьбу увидеть миледи. Помнится, мистер Грей долго не мог понять, что парадную дверь отворяют только по особым случаям, и даже когда понял, ноги сами несли его к парадному фасаду. Я впервые переступила порог дома миледи с главного входа – как и все, кто впервые посещал Хэнбери-Корт; но после того все (за исключением избранных знакомцев миледи), словно бы по наитию, заходили с террасы. Внезапному наитию весьма способствовало присутствие на переднем дворе цепных псов устрашающего вида и размера – волкодавов хэнберийской породы, которая только здесь и сохранилась на всем нашем острове; их грозный лай раздавался днем и ночью, и всякий одушевленный или неодушевленный предмет они встречали свирепым рыком; на «свою» территорию церберы спокойно допускали лишь служителя, приносившего им корм, карету миледи вместе с четверкой лошадей и саму миледи. Надо было видеть, как ее миниатюрная фигурка приближалась к гигантским зверюгам, смиренно падавшим ниц; как эти монстры, заходясь от восторга, неотрывно следили за ее легкой поступью, били по земле тяжелыми хвостами и пускали слюни в предвкушении хозяйской ласки. Миледи совсем не боялась их, но ведь она происходила из рода Хэнбери, а согласно семейному преданию, у здешних волкодавов было врожденное чутье на всех носителей этой фамилии, чью власть над собой они безропотно признавали с тех давних пор, когда их предков, основоположников этой породы, привез с Востока достославный сэр Уриан Хэнбери, ныне лежавший в виде мраморного изваяния на своем высоком надгробии в приходской церкви. Мне говорили, что лет пятьдесят тому назад один из хэнберийских псов загрыз ребенка, по малости лет не сумевшего правильно оценить длину цепи и заступившего за опасную черту. Стоит ли удивляться, почему большинство посетителей предпочитало вход с террасы. Однако мистеру Грею все было нипочем. Конечно, он мог по рассеянности просто не замечать собак: рассказывали, что однажды, задумавшись, он проходил слишком близко и едва успел отскочить, когда они разом рванулись к нему. Но едва ли можно объяснить рассеянностью другой случай, который произошел на глазах у меня и моих подруг. В тот день мистер Грей направился к одному волкодаву и дружески потрепал его по загривку; страшный пес жмурился от удовольствия и благодарно вилял хвостом, словно приветствовал кого-то из Хэнбери. Представьте себе наше изумление! Честно говоря, я по сей день не знаю, как это объяснить.