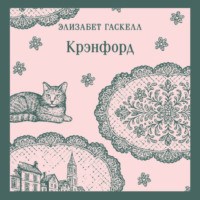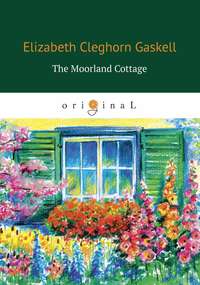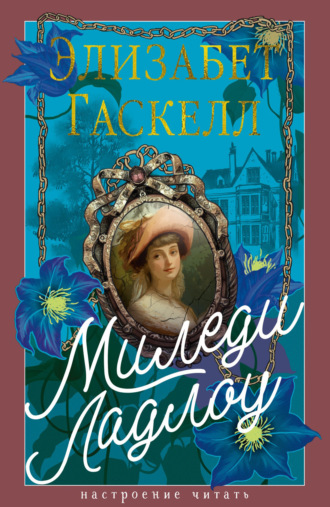
Полная версия
Миледи Ладлоу
– Мистер Маунтфорд, сегодня можете опустить обращение к пастве.
Весьма довольные решением ее светлости, ускорявшим переход к литании, мы тотчас преклоняли колени. Мистер Маунтфорд был глух, но не слеп и в этом месте службы всегда пристально следил за действиями миледи.
Пришедший ему на смену мистер Грей представлял совершенно иную породу клириков. Свои приходские обязанности он исполнял с великим рвением, и миледи, неустанно помогавшая бедным, часто повторяла, что его сам Бог послал в их приход; а мистер Грей твердо знал, что в графской усадьбе никогда не оставят без внимания его просьбу прислать бульона, или вина, или желе, или саго для больного. Одна беда: будучи человеком своего времени, он примкнул к стану приверженцев модного хобби – образования. И это, увы, побудило миледи в корне изменить свое мнение о нем. Как-то раз во время воскресной службы она заподозрила (не спрашивайте почему), что в проповеди он собирается затронуть тему воскресных школ. Она поднялась со скамьи – чего не делала со смерти мистера Маунтфорда, то есть больше двух лет, – и объявила:
– Мистер Грей, сегодня можете опустить обращение к пастве.
Однако ее голосу не хватало прежней безапелляционности, да и мы стали на колени со смешанным чувством: неудовлетворенное любопытство возобладало над тайным желанием приблизить конец богослужения. Мистер Грей произнес тогда очень духоподъемную проповедь о необходимости открыть в деревне воскресную школу – «школу дня седьмого»[6], как он выразился. Миледи закрыла глаза и, казалось, уснула. Но я уверена, что она не упустила ни единого слова, хотя никак не комментировала услышанное вплоть до субботы, когда мы, две ее подопечные, по заведенному обычаю сопровождали миледи в карете, чтобы проведать некую бедную, прикованную к постели женщину, жившую в нескольких милях от нас, на краю поместья и прихода. Покидая хижину, мы встретили мистера Грея, к ней направлявшегося; видно было, как он устал и запыхался от долгой ходьбы. Миледи подозвала его к себе и сказала, что дождется его и отвезет домой, хотя ей удивительно видеть его здесь – далековато для субботнего променада, не слишком ли он утруждает себя в день седьмой, а точнее в Шаббат, ведь, судя по его проповеди, он исповедует не христианство, а иудаизм. Мистер Грей посмотрел на нее так, словно не понимал, о чем она говорит. Справедливости ради надо заметить, что он не только выступал за школы и начальное образование для всех, но и упрямо называл воскресенье «седьмым днем», из чего ее светлость делала простой вывод: «Этот его день седьмой – не что иное, как суббота, и если я соблюдаю субботу, значит я иудейка, чего нет и в помине. А воскресенье так и нужно называть – „воскресенье“, и это совсем другое дело: если я соблюдаю воскресенье, значит я христианка, в чем смиренно смею вас заверить».
Когда же мистер Грей наконец уловил, что́ скрывается за ее словами о субботнем променаде, он счел за лучшее не вдаваться в детали. С улыбкой поклонившись, он лишь выразил уверенность в том, что ее светлость, как никто, понимает, какими обязанностями можно, а какими нельзя пренебречь в седьмой день; что он должен посетить старую больную Бетти Браун и прочесть ей главу из Писания, а посему не смеет задерживать ее светлость.
– Нет, я вас дождусь, мистер Грей, – сказала она. – Вернее, так: я съезжу в Оукфилд и через час вернусь за вами.
Видите ли, ей не хотелось, чтобы из-за нее он чувствовал беспокойство и необходимость поторапливаться, в то время как ему следовало найти нужные слова утешения для старой Бетти и вместе с нею помолиться о спасении ее души.
– Прекрасный молодой человек, мои милые, – сказала миледи, едва мы отъехали. – Но я тем не менее распоряжусь о стекле для скамьи.
В ту минуту мы не поняли, что она имеет в виду, но неделю спустя, в воскресенье, загадка разрешилась. Занавеси, со всех сторон закрывавшие огромную фамильную «скамью» Хэнбери в приходской церкви, исчезли, и вместо них были воздвигнуты стеклянные стенки высотой шесть или семь футов. В двери, которая вела в это отгороженное пространство, имелось подъемное окно наподобие тех, какие используются в экипажах. Обычно оно было опущено и мы хорошо слышали каждое слово, но стоило мистеру Грею упомянуть о седьмом дне или заговорить о пользе школьного образования, как миледи выступала из своего угла и до упора поднимала оконную раму, ничуть не смущаясь производимым грохотом и лязгом.
Я должна подробнее остановиться на фигуре мистера Грея. Почетная обязанность представить пастве главу прихода возлагалась на одного из двух официальных попечителей местной церкви, каковыми являлись леди Ладлоу и другое важное лицо. В прошлый раз эту обязанность исполнил лорд Ладлоу при назначении мистера Маунтфорда: тот был прекрасный наездник, чем и заслужил расположение его светлости. Из этого не следует, что мистер Маунтфорд был негодным священником, отнюдь – по меркам того времени. Он не пил, зато очень любил поесть. И если до него доходил слух, что какой-то бедняк занедужил, он посылал ему лучшие яства с собственного стола, хотя для больного его угощение могло оказаться смертельным ядом. Святой отец благожелательно относился ко всем, кроме раскольников, которых он совместно с леди Ладлоу стремился изгнать из прихода; а среди раскольников он особенно невзлюбил методистов – якобы потому, что Джон Уэсли[7] порицал его пристрастие к охоте. Но это давняя история; ко времени нашего знакомства для охоты мистер Маунтфорд был слишком тучен и неповоротлив; и кроме того, епископ осуждал подобные увлечения, о чем ясно дал понять своему клиру. Лично я думаю, что хорошая прогулка верхом пошла бы на пользу мистеру Маунтфорду в смысле не только физического, но и душевного здоровья. Он слишком много ел и мало двигался. И даже до нас, молодых компаньонок миледи, доходили слухи о его крайней несдержанности в отношении слуг, церковного сторожа и алтарника. Впрочем, никто из перечисленных не держал на него зла – старик был отходчив и, выпустив пар, старался задобрить свою жертву каким-нибудь подарком, по щедрости прямо пропорциональным силе его гневной вспышки. Церковный сторож, не отличавшийся большим усердием (что в целом свойственно сторожам, по моему наблюдению), уверял, будто бы выражение «черт тебя возьми» из уст преподобного с гарантией сулило шиллинг, тогда как просто «дьявольщина» – всего лишь половину, жалкие шесть пенсов, недостойные настоятеля храма и простительные разве что дьякону.
Что и говорить, у мистера Маунтфорда было доброе сердце. Он не выносил вида боли или горя – любого несчастья; и если таковое все же попадалось ему на глаза, не мог успокоиться, пока не находил способа облегчить страдание, пусть и на короткое время. Из-за своей чувствительности он так боялся переживаний, что по возможности отвращал свой взор от страждущих и не жаловал тех, кто рассказывал ему о них.
– Да что прикажете мне делать с ним, ваша светлость? – ответил он, когда миледи Ладлоу попросила его навестить какого-то бедняка со сломанной ногой. – Ногу ему я не склею – для этого есть доктор; в уходе моем он не нуждается – для этого у него есть жена. Мне остается лишь вести с ним беседы, но много ли поймет он из моих слов? Не больше, чем я из слов алхимика. Мое присутствие только смущает его: из почтения к моему сану он застывает в неудобнейшей позе – ни дрыгнуть ногой, ни выругаться, ни жену попрекнуть ему нельзя, пока я рядом. Внутренним слухом я так и слышу, миледи, вздох облегчения у себя за спиной, когда выхожу от него. А насчет моей проповеди… Я-то знаю, что́ он думает: лучше бы я приберег свою проповедь для аналоя – для его односельчан, им она бы уж точно пригодилась (ибо адресована грешникам, по его разумению). Я сужу о других по себе и поступаю с другими так, как хотел бы, чтобы и со мной поступали. Это, во всяком случае, по-христиански[8]. А я решительно не хотел бы – не при вас будь сказано, ваша светлость, – чтобы милорд Ладлоу пришел проведать меня, когда я болел. Он оказал бы мне великую честь, спору нет, однако мне пришлось бы натянуть на голову чистый колпак, и демонстрировать из вежливости примерное терпение, и не докучать его светлости своими жалобами. Я был бы вдвойне благодарен и полнее осознал бы оказанную мне честь, если бы его светлость прежде прислал мне подстреленную дичь или жирненький окорок для скорейшей поправки здоровья и укрепления сил. Посему я обязуюсь ежедневно посылать Джерри Батлеру, пока он не выздоровеет, вкусный и сытный обед и милосердно избавлю несчастного старика от своего присутствия и наставлений.
В иных обстоятельствах миледи была бы немало изумлена этой речью, как и многими речами мистера Маунтфорда. Но поскольку на него пал выбор милорда, она не могла поставить под сомнение мудрость покойного мужа. К тому же миледи знала, что обещанные обеды всегда отправляются по назначению, нередко с одной-двумя гинеями в придачу для оплаты докторских счетов; и что мистер Маунтфорд убежденный роялист – роялист до мозга костей, как говорится; и что он одинаково ненавидит раскольников и французов и даже за чаем готов поднять тост «за Церковь и Короля – долой Охвостье»[9]. Более того, однажды он удостоился чести произнести в Уэймуте[10] проповедь перед королевской четой и двумя принцессами и заслужил высочайшую похвалу (все слышали, как его величество одобрительно заметил: «Хорошо, очень хорошо»). В глазах миледи это было все равно что пробирное клеймо, удостоверяющее ценность мистера Маунтфорда.
К безусловным достоинствам мистера Маунтфорда относилось и то, что он помогал скоротать долгие зимние воскресные вечера в Хэнбери-Корте: сперва читал проповедь нам, молодым подопечным миледи, а после играл с ее светлостью в пикет[11]. В завершение миледи приглашала его отужинать вместе с нею на подиуме, но так как весь ее ужин неизменно состоял лишь из хлеба с молоком, мистер Маунтфорд предпочитал сидеть внизу, за общим столом с нами, не упуская случая ввернуть свою излюбленную шутку про вопиющую несуразицу предписания не есть вдоволь по воскресеньям, в праздник Дня Господня. Мы вежливо улыбались его остроумию – в двадцатый раз точно так же, как в первый, заранее предупрежденные о том, что́ сейчас воспоследует: прежде чем пошутить, преподобный смущенно откашливался, словно опасаясь вызвать недовольство миледи. Судя по всему, ни он, ни она не помнили, что его «оригинальная» мысль уже не нова.
Умер мистер Маунтфорд для всех неожиданно, и мы искренне сожалели об этой утрате. Часть своего имущества (у него было небольшое имение) он оставил в пользу нуждающихся прихожан, дабы в Рождество они не чувствовали себя обделенными и получили на обед ростбиф и пудинг: превосходный рецепт рождественского пудинга обнаружился в приложении к его завещанию.
Другое распоряжение мистера Маунтфорда содержало просьбу к душеприказчикам тщательно проветрить усыпальницу настоятелей хэнберийского храма, прежде чем внести туда его гроб: всю свою земную жизнь преподобный страшно боялся сырости, и в последние месяцы температура в его жилище держалась на столь высокой отметке, что, возможно (как думали некоторые), это ускорило его конец.
После смерти мистера Маунтфорда второй попечитель приходской церкви представил осиротевшей пастве его преемника мистера Грея, обладателя ученой степени оксфордского Линкольн-колледжа[12]. Естественно, все мы, принадлежа в той или иной мере к семейству Хэнбери, не одобряли выбора второго попечителя. Но когда кто-то из злоязычников пустил слух, будто бы мистер Грей – моравский методист, миледи сказала (и я тому свидетель), что не поверит столь чудовищным обвинениям без неопровержимых доказательств.
Глава вторая
Прежде чем перейти к рассказу о мистере Грее, думаю, надо ближе познакомить вас с особенностями нашей повседневной жизни в Хэнбери. В то время на попечении миледи нас было всего пять душ – пять девиц из хороших семей, связанных родственными узами (хотя бы и дальними) с представителями титулованной знати. Если мы не находились в обществе миледи, нами занималась миссис Медликотт, кроткая маленькая женщина, многолетняя компаньонка миледи и, как мне сказывали, ее отдаленная родня. Родители миссис Медликотт жили в Германии, и по-английски она говорила с сильнейшим акцентом. Другим следствием ее германского воспитания было виртуозное владение всеми видами вышивки и шитья, о которых нынешние мастерицы даже не слыхивали. Она так незаметно умела починить и кружево, и скатерть, и тончайший индийский муслин, и вязаные чулки, что никто не нашел бы места недавней прорехи. Добрая протестантка, миссис Медликотт никогда не пропускала праздничного богослужения в День Гая Фокса[13], хотя искусством рукоделия владела не хуже монашки из какой-нибудь папистской обители. Вот она берет в руки кусок французского батиста – тут несколько нитей вытянет, там вошьет, и в считаные часы гладкая материя превращается в ажурное белое шитье. Так же ловко она управлялась с тяжелым, плотным голландским льном, украшая его простым и крепким кружевом – им были отделаны все салфетки и скатерти в доме миледи. Значительную часть дня мы трудились под ее руководством либо в просторной подсобной комнате-кладовой при кухне, либо (когда корпели над рукоделием) в примыкающей к холлу светлой комнате. Миледи не признавала изделий «с претензией», полагая, что использовать в вышивке цветную нить или гарус позволительно только в качестве детской забавы, но взрослой женщине не пристало увлекаться синим и красным, так как главное удовольствие в работе белошвейки – аккуратные, мелкие, ровные стежки. Со слов миледи мы знали, что старинный гобелен в холле соткан ее прародительницами, жившими еще до Реформации[14] и потому не ведавшими о высокой чистоте вкуса ни в ремесле, ни в религии. Впрочем, современную моду миледи также отвергала. Что это за мода, если высокородные леди берутся шить себе туфли, как повелось с начала нынешнего века? По ее убеждению, подобные причуды были следствием французской революции, которая весьма преуспела в попытках стереть все сословные различия, и вот вам результат: молодые леди благородного происхождения и воспитания возятся с обувными колодками, шилом и воском для нити, будто дочки простого башмачника!
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «Литрес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.
Сноски
1
«Вера и закон»(ст. – фр.).
2
Лисовин – на языке охотников самец лисицы, лис. – Здесь и далее примеч. перев.
3
У британского короля Георга III (прав. 1760–1820) и его супруги королевы Шарлотты (урожд. София Шарлотта Мекленбург-Стрелицкая) было 15 детей, из которых лишь двое (мальчики) умерли в детские годы; принцесса Амелия родилась в 1783 г.
4
Плантагенеты – королевская династия в Англии (1154–1485).
5
Роберт Рейкс (1735–1811) – английский издатель и филантроп, основатель воскресных школ для детей бедняков; первую школу открыл на свои средства в 1780 г.
6
Согласно Ветхому Завету, Господь заповедовал: «Помни день субботний, чтобы святить его. Шесть дней работай и делай в них всякие дела твои, а день седьмой – суббота Господу, Богу твоему: не делай в тот день никакого дела… Ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой почил. Поэтому благословил Господь день субботний и освятил его» (Исх. 20: 8–11). Иудеи по-прежнему соблюдают субботу, тогда как для христиан день Господень – воскресенье, т. е. день восьмой от начала сотворения мира (в память о воскресении Христа, даровавшего людям Новый Завет). Но у некоторых протестантских конфессий сохранилось понимание воскресенья как христианской субботы (Sabbath).
7
Джон Уэсли (1703–1791) – англиканский священник, основатель методизма – одного из направлений в протестантизме, окончательно отделившегося от англиканства в 1795 г.
8
Отсылка к Нагорной проповеди Иисуса Христа: «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки» (Мф. 7: 12).
9
«Охвостьем» принято называть остаток Долгого парламента (1640–1653) после изгнания из него депутатов-пресвитерианцев (1648). В результате острой борьбы парламента с королем за ограничение королевской власти в Англии разразилась гражданская война, Карл I потерпел поражение, был предан суду парламентского «Охвостья» и казнен 30 января (9 февраля) 1649 г.; «Охвостье» учредило республиканское правление, просуществовавшее до реставрации монархии в 1660 г.
10
Уэймут – приморский город-курорт на юге Англии; с 1789 по 1805 г. – летняя резиденция короля Георга III.
11
Пикет – старинная карточная игра французского происхождения для двух игроков.
12
Линкольн-колледж – один из колледжей Оксфордского университета, основанный в 1427 г. епископом Линкольнским для изучения богословия; в XVIII в. стал колыбелью методизма благодаря деятельности Джона Уэсли и его брата Чарльза, устраивавших там с 1726 г. собрания своих сторонников («клуба святых»); со временем движение распространилось на всю страну и за океан, в Америку. Известно, что в конце 1730-х гг. Джон Уэсли посещал в Лондоне собрания упомянутых ниже моравских братьев – последователей евангелической деноминации, возникшей в Чехии в XV в. в результате так называемой гуситской реформации; по своим религиозным воззрениям моравские братья ближе всего к лютеранам, последователям Мартина Лютера, возглавившего в первой половине XVI в. Реформацию в Германии.
13
День Гая Фокса – ежегодный праздник в память о провале Порохового заговора 5 ноября 1605 г. – неудачной попытке католиков устроить взрыв в парламенте Великобритании во время тронной речи короля Якова I; в этот день в англиканских церквах служат благодарственный молебен.
14
Реформация – религиозное и общественно-политическое движение в Европе за преобразование Римско-католической церкви, приведшее к возникновению протестантизма; в Англии выразилось в утверждении Англиканской церкви во главе с монархом («Акт о верховенстве», 1534).