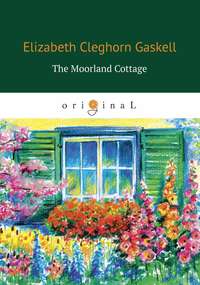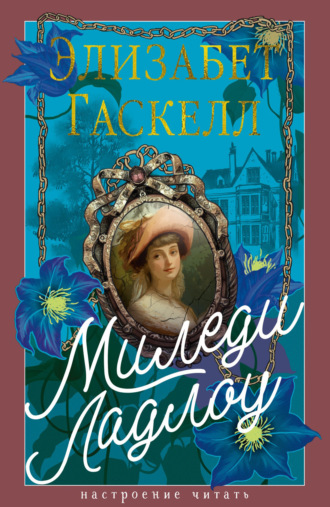
Полная версия
Миледи Ладлоу
– Полагаю, это доказательство представлено судейской коллегии, куда входят люди, дорожащие своей честью, репутацией и добрым именем своей семьи, люди, хорошо известные всему графству. Вполне естественно, что мнение одного из них имеет в глазах остальных больше веса, чем слова какого-то Джоба Грегсона – человека совсем иного свойства… его небеспочвенно подозревают в браконьерстве, и никто не знает, откуда он взялся, и живет он здесь на птичьих правах… на Хэрмановой пустоши, то бишь на общинной земле… которая, к слову сказать, не относится к нашему приходу, и следовательно, вы, как приходский священник, не в ответе за то, что там происходит. Возможно, судьи отчасти правы, когда говорят вам… к сожалению, не вполне дипломатично… что дела судейские не ваша забота, – с улыбкой прибавила миледи. – Возможно, они захотят и мне указать на мое место, если я стану вмешиваться. Вы этого не допускаете, мистер Грей?
Судя по его виду, он был крайне разочарован и, пожалуй, рассержен ее ответом. Раз или два он порывался что-то возразить, но останавливал себя на полуслове, опасаясь, должно быть, высказаться неосмотрительно; в конце концов он промолвил:
– Вероятно, я слишком много на себя беру… я человек пришлый, всего несколько недель как поселился здесь… и не мне учить местных старожилов, кто заслуживает доверия, а кто нет. – (Леди Ладлоу слегка кивнула в знак согласия – невольно, думаю я, и ее собеседник вряд ли обратил на это внимание.) – Но я абсолютно убежден в невиновности осужденного… Да и судьи не могут привести ни одного резона, кроме смехотворного обычая всенепременно соглашаться с решением вновь назначенного собрата.
Напрасно мистер Грей употребил слово «смехотворный»! Оно затмило все благоприятное впечатление, которое миледи вынесла из скромного начала его речи. Я знала, как если бы услышала из ее собственных уст, что для нее это подлинный афронт: такие эпитеты применительно к действиям тех, кто стоит рангом выше тебя, просто недопустимы, не говоря уже о вопиющей бестактности столь резких выражений, учитывая, с кем он сейчас говорил.
Леди Ладлоу ответила ему вкрадчиво и неторопливо – как и всегда в приступе сильного раздражения: для нас, хорошо изучивших ее, то была верная примета.
– Нам лучше оставить этот предмет, мистер Грей. Тут мы едва ли придем к согласию.
Лицо мистера Грея побагровело, потом краска отхлынула от щек, и он сделался страшно бледен. Казалось, они с миледи забыли о нашем присутствии, а мы испытывали такую неловкость, что боялись напомнить о себе. Все это ничуть не мешало нам с превеликим интересом следить за происходящим.
Мистер Грей выпрямил спину и расправил плечи, вмиг преисполнившись достоинства. Несмотря на тщедушную наружность, несмотря на то что еще несколько минут назад он смущался и терялся, теперь в его облике вдруг проступило величие, почти как в облике миледи.
– Да будет известно вашей светлости, что мой долг – говорить с прихожанами на любые темы, в том числе на такие, относительно которых наши мнения расходятся. Я не вправе молчать лишь потому, что другие со мной не согласны.
Большие синие глаза леди Ладлоу расширились от удивления и – о ужас! – от гнева, что кто-то смеет говорить с ней подобным образом. Боюсь, мистер Грей поступил не слишком благоразумно. Он и сам, по-видимому, опасался последствий, но твердо решил не отступать, а там будь что будет. На минуту воцарилась тишина. Затем миледи сказала ему:
– Мистер Грей, при всем уважении к вашей прямоте, я не вполне понимаю, на каком основании молодой человек вашего возраста и положения считает себя лучшим судией, нежели его многоопытный визави. Я сужу с высоты своей долгой жизни и определенного веса в обществе.
– Ежели я, мадам, будучи главой прихода, должен иметь мужество говорить правду – как я ее разумею – простым и бедным людям, я тем более не должен молчать, когда передо мной особа титулованная и богатая.
Лицо мистера Грея свидетельствовало о той крайней степени возбуждения, которая у детей всегда заканчивается слезами. В своем взвинченном состоянии он мог сказать и сделать то, что было противно его натуре и чего он никогда не сказал и не сделал бы, если бы этого не требовал от него священный долг пастора. В такие мгновения любая мелочь обретает преувеличенное значение, усугубляя душевную муку. Внезапно до его сознания дошел факт моего с Мэри присутствия, и он окончательно смешался.
Миледи вспылила:
– Не кажется ли вам, милостивый государь, что вы сильно уклонились от исходного предмета разговора? Но коли вы все твердите о вверенном вам приходе, позвольте еще раз напомнить вам, что Хэрманова пустошь лежит за его пределами и вы вовсе не в ответе за нравы и обычаи безродных пришлых людей, поселившихся на этом несчастном клочке земли!
– Мадам, как видно, я только навредил Грегсону, затеяв с вами разговор о его деле. Прошу меня простить, и на сем позвольте мне откланяться.
Он поклонился, и было видно, что он чрезвычайно расстроен. Леди Ладлоу заметила выражение его лица.
– Прощайте! – громко сказала она. – И помните: Джоб Грегсон – известный браконьер и мошенник, но вы не обязаны отвечать за все, что творится на Хэрмановой пустоши!
Ее слова настигли его уже возле дверей, и он что-то пробормотал: мы с Мэри расслышали (находясь ближе к нему), миледи – нет.
– Что он сказал? – спросила она, едва за ним закрылась дверь. – Я не услышала.
Мы с Мэри переглянулись, и я ответила:
– Он сказал, миледи: «Боже, помоги мне! Ибо я в ответе за все зло, которое не смог предотвратить».
Миледи резко повернулась к нам спиной. Впоследствии Мэри Мейсон говорила, будто бы ее светлость рассердилась на нас обеих за то, что мы присутствовали при ее разговоре с мистером Греем, а на меня еще и за то, что я передала ей его слова. Но я не чувствовала за собой вины.
Через несколько минут миледи позвала нас в экипаж.
Леди Ладлоу всегда сидела одна на сиденье, лицом по ходу движения, а мы, ее молодые компаньонки, – спиной. Таково было негласное правило, которое никому не приходило в голову оспаривать, хотя некоторым нежным барышням от такой езды иногда делалось дурно до обморока. Во избежание подобных казусов миледи в любую погоду держала окна кареты открытыми и потому временами страдала ревматизмом, но от заведенного порядка не отступала. В тот день она не следила за дорогой и кучер сам выбирал путь. В карете было непривычно тихо – миледи сидела молча, с видом серьезным и строгим. Обычно поездки с ней доставляли большое удовольствие (тем, кто не ждал неприятностей от езды спиной вперед): миледи очаровательно беседовала с нами и рассказывала о разных случаях, которые происходили с ней в тех или иных местах – в Париже и Версале во дни ее молодости; в Виндзоре, Кью и Уэймуте[27] в бытность ее фрейлиной королевы; и так далее. Но в тот день она точно воды в рот набрала. И вдруг ни с того ни с сего высунула голову в окно:
– Джон Футмен, где это мы? На Хэрмановой пустоши?
– На ней, ваша светлость, – ответил кучер-лакей в ожидании новых вопросов или распоряжений.
Миледи немного подумала и объявила, что хочет здесь сойти.
Она вышла из кареты, а мы молча посмотрели друг на друга и стали глядеть ей вослед. С присущим миледи изяществом она легко переступала маленькими ножками в туфлях на высоких каблуках (по моде времен ее молодости) с одного сухого пятна земли на другое, легко лавируя между лужами желтой застойной воды, которая вечно скапливается на поверхности глинистой почвы. Джон Футмен отправился за ней. Он очень старался сохранить важность поступи и при этом не забрызгать грязью свои безупречно белые чулки. Внезапно миледи обернулась и что-то сказала ему, после чего он возвратился к карете, весьма обрадованный и вместе с тем озадаченный.
Миледи же пошла дальше, к скоплению глинобитных хижин под дерновыми крышами у дальнего края пустоши. Издали, имея возможность видеть, но не слышать, мы с интересом наблюдали за этой пантомимой. Вероятно, леди Ладлоу была достаточно хорошо знакома с внутренним устройством подобных жилищ, чтобы замешкаться у входа и даже обратиться к кому-то из детей, игравших посреди грязных луж. Потом она все-таки скрылась в одной из лачуг. Нам показалось, что прошло немало времени, прежде чем она вышла оттуда; на самом деле, думаю, ее не было видно всего минут восемь-десять. Назад она шла, низко склонив голову, словно бы непрерывно глядя себе под ноги, чтобы не ступить в грязь, однако ее беспокоило вовсе не это, а тяжелые мысли и сомнения.
Она уселась на свое место в карете, еще не решив, куда ехать дальше. Джон Футмен стоял у окошка с непокрытой головой и ждал приказа.
– В Хатауэй! А вы, голубушки, если устали или должны выполнять задание миссис Медликотт, можете вернуться домой. Я довезу вас до поворота на Барфорд, оттуда быстрым шагом всего четверть часа.
К счастью, мы не кривя душой могли сказать ей, что миссис Медликотт в нас не нуждается. Пока мы с Мэри сидели одни и перешептывались, мы обе пришли к выводу, что миледи наверняка отправилась в дом Джоба Грегсона, и теперь сгорали от любопытства узнать, чем все закончится. Какая уж тут усталость! Короче говоря, мы поехали с ней в Хатауэй. Хозяин поместья, мистер Гарри Лейтем, холостяк лет тридцати – тридцати пяти, лучше чувствовал себя на приволье, нежели в светской гостиной и обществу дам предпочитал компанию таких же, как он, любителей охоты.
Миледи, разумеется, не вышла из кареты: мистер Лейтем обязан был выказать свое почтение и предстать перед ней. Она лишь велела его дворецкому (который сильно смахивал на егеря и этим разительно отличался от нашего напудренного, почтенного, безупречного джентльмена-дворецкого в Хэнбери) передать от нее поклон своему господину и сказать, что она желала бы переговорить с ним. Вообразите, как мы обрадовались и навострили уши, дабы ничего не упустить из предстоявшего разговора, хотя очень скоро радость сменилась сожалением – когда мы увидели, насколько смутило наше присутствие бедного сквайра. Ему и без того было бы неприятно отвечать на вопросы миледи, а тут пришлось держать речь перед зрителями в лице двух любопытных барышень!
– Помилуйте, мистер Лейтем, – без предисловий начала миледи, слишком взволнованная своими мыслями, чтобы соблюдать политес, – что это за история с Джобом Грегсоном?
Вопрос рассердил мистера Лейтема, но он не посмел выразить недовольство в словах.
– Я выписал ордер на взятие его под стражу, миледи, – за воровство. Только и всего. Вам, несомненно, известна его гнилая натура. Он без зазрения совести расставляет силки и сети на дичь и ловит рыбу, где ему вздумается. От браконьерства до воровства один шаг!
– Верно, верно, – согласилась леди Ладлоу: именно по этой причине браконьерство наводило на нее ужас. – Но я полагаю, человека сажают в тюрьму не за дурную натуру.
– А как же бродяги и нищие? – напомнил мистер Лейтем. – Человека можно отправить в тюрьму за бродяжничество – не за какой-то особый проступок, заметьте, а за образ жизни[28].
Казалось, он сумел взять верх над миледи, но после недолгой паузы она парировала:
– В данном случае вы отправили человека в тюрьму, признав его виновным в воровстве. А жена его уверяет, что в тот день он находился за несколько миль от Хоумвуда, где произошла кража, и может это доказать. Она говорит, что у вас есть доказательство его невиновности…
Мистер Лейтем, насупившись, перебил ее:
– Ничего подобного у меня не было, когда я выписал ордер на арест. А если у моих коллег появились новые доказательства, они могли принять их во внимание и вынести то решение, какое считали нужным. С них и спрашивайте. В конце концов, это они отправили его в тюрьму. Я не обязан за них отвечать.
Миледи редко выказывала нетерпение, но в тот раз мы видели, как в ней нарастает досада: ее туфелька на высоком каблуке беспрестанно постукивала по полу кареты. И тут мы с Мэри со своего сиденья напротив миледи увидели сквозь открытую дверь усадьбы фигуру мистера Грея в полумраке прихожей. Очевидно, приезд леди Ладлоу прервал его разговор с мистером Лейтемом, но он должен был хорошо слышать каждое ее слово. Ни в коей мере не подозревая об этом, миледи возразила мистеру Лейтему, пытавшемуся снять с себя всякую ответственность, почти теми же словами, которые услышала от мистера Грея (в нашей передаче) каких-нибудь два часа назад:
– Уж не хотите ли вы сказать, мистер Лейтем, что не считаете себя ответственным за всякую несправедливость или беззаконие, каковые вы могли бы предотвратить, но не предотвратили? А в этом деле первоисточником неправедного суда стала ваша собственная ошибка. Жаль, вас не было со мной, когда по пути к вам я зашла в дом этого несчастного, и вы не видели, в каком бедственном положении находится его семья.
Она понизила голос, и мистер Грей, чтобы лучше слышать ее, сделал несколько шагов вперед, скорее всего безотчетно. Теперь мы с Мэри ясно видели его, а мистер Лейтем наверняка услыхал за спиной его шаги и понял, что священник слышит и одобряет каждое слово миледи. Мистер Лейтем еще больше насупился, однако деваться некуда – миледи есть миледи! – и он не смел говорить с ней так, как говорил бы с мистером Греем. Леди Ладлоу заметила на его лице выражение угрюмого упрямства, и это вывело ее из себя, я никогда еще не видела ее в таком раздражении.
– Уверена, сэр, что вы не откажетесь принять от меня залог. Предлагаю отпустить осужденного под залог и мое поручительство: я обязуюсь, что он явится в суд на последующие слушания. Что вы на это скажете, мистер Лейтем?
– Миледи, по закону осужденный за воровство не может быть отпущен под залог.
– Полагаю, закон писан для обычных случаев. Мы же говорим о случае необычном. Исключительно вам в угоду, как я узнала, и вопреки всем доказательствам человека посадили за решетку. Через два месяца он сгниет в тюрьме, а его жена и дети умрут с голоду. Я, леди Ладлоу, беру его на поруки и обязуюсь обеспечить его явку на слушания в ходе ближайшей квартальной сессии[29].
– Но это будет нарушение закона, миледи!
– Ба-ба-ба! Кто составляет законы? Такие, как я, – в палате лордов; такие, как вы, – в палате общин. И мы, принимающие законы в часовне Святого Стефана[30], можем позволить себе иногда пренебречь их формальной стороной, ежели твердо знаем, что за нами правда, что мы творим справедливость в своем отечестве, среди своего народа.
– Да за такие вольности лорд-лейтенант[31], как только ему донесут, лишит меня судейской должности!
– Это было бы на благо графству, Гарри Лейтем, да и вам тоже… если вы собираетесь продолжать в том же духе. Хороши жрецы правосудия – что вы, что ваши собратья-магистраты! Я всегда говорила, что честный деспотизм – наилучшая форма правления, а теперь и подавно так считаю, глядя на ваш судейский кворум. Милые мои! – внезапно обратилась она к нам. – Если вас не слишком утомит пешая прогулка до дому, я попрошу мистера Лейтема сесть ко мне в карету и мы сейчас же поедем в Хэнли вызволять беднягу из тюрьмы.
– Молодым леди не подобает в такой час одним идти по полям, – неуклюже возразил мистер Лейтем, пытаясь уклониться от поездки с миледи и вовсе не горя желанием прибегнуть к противозаконным мерам, на которые она его толкала.
И тогда вперед смело выступил мистер Грей. Он готов был на все, лишь бы устранить препятствие, способное помешать освобождению узника. Видели бы вы лицо леди Ладлоу, когда она внезапно поняла, что он все это время, затаив дыхание, следил за ее беседой с мистером Лейтемом! На наших глазах разыгралась поистине театральная сцена. Ведь все, что она говорила, было зеркальным отражением того, что час или два назад, к ее великому неудовольствию, говорил мистер Грей. Она распекала мистера Лейтема в присутствии человека, которому сама же отрекомендовала сквайра истинным джентльменом, столь благоразумным и столь уважаемым в графстве, что нельзя было сомневаться в добропорядочности его поступков. Итак, мистер Грей вызвался проводить нас в Хэнбери-Корт. И еще прежде чем он успел закончить фразу, к миледи вернулось ее обычное самообладание. В тоне ее ответа ему не сквозило ни удивления, ни досады.
– Благодарю вас, мистер Грей. Я не знала, что вы здесь, но, кажется, я догадываюсь, зачем вы здесь. Наша нечаянная встреча напомнила мне о том, что я должна повиниться перед мистером Лейтемом. Мистер Лейтем, я говорила с вами довольно резко… совсем позабыв – пока не увидела мистера Грея, – что не далее как сегодня мы с ним решительно разошлись во мнениях по поводу дела Грегсона: я придерживалась точно такого же, как у вас, взгляда на всю эту историю, полагая, что для нашего графства будет лучше избавиться от Джоба Грегсона или любого другого вроде него, виновен он в краже или нет. Мы не вполне дружески расстались с мистером Греем, – прибавила она, слегка поклонившись священнику, – но потом я случайно оказалась возле дома Джоба Грегсона и увидела его жену… И тогда поняла, что мистер Грей прав, а я заблуждалась. Поэтому с непоследовательностью, свойственной, как известно, нашему полу, я приехала сюда выговаривать вам, – с улыбкой сказала миледи мистеру Лейтему, все еще насупленному, даже после ее улыбки, – за то, что вы упорствуете в своем мнении, которое я разделяла еще час назад. Мистер Грей, – завершила она с поклоном, – молодые леди премного благодарны вам за любезное предложение; примите также и мою благодарность. Мистер Лейтем, вы не откажете съездить со мной в Хэнли?
Мистер Грей низко поклонился и густо покраснел. Мистер Лейтем что-то пробормотал – слов мы не разобрали; по всей видимости, в них выразилось вялое сопротивление. Пропустив его ропот мимо ушей, леди Ладлоу невозмутимо ждала, когда он займет свое место. И едва мы сошли с проезжей дороги, я краем глаза заметила, как мистер Лейтем с видом побитой собаки полез в карету. Признаться, я ему не завидовала: миледи была настроена очень решительно. Но я и теперь думаю, что он справедливо считал цель их поездки противозаконной.
В нашей пешей прогулке до дому не было ничего, кроме скуки. Честно говоря, мы совсем не боялись ходить одни и нам было бы куда веселее без такого провожатого, как мистер Грей, который наедине с нами тотчас превратился в неловкого, беспрестанно краснеющего молодого человека. Возле каждого перелаза в изгороди он впадал в суетливое замешательство – то первый лез наверх, желая оттуда помочь нам взобраться, то вдруг вспоминал, что полагается пропустить дам вперед, и торопливо возвращался вниз. Он был напрочь лишен светской непринужденности, как заметила однажды миледи, но, когда дело касалось пасторского служения, в нем просыпалось необычайное достоинство.
Глава третья
Если мне не изменяет память, почти сразу после описанных выше событий я впервые почувствовала боль в бедре, а кончилось тем, что я на всю жизнь осталась калекой. После нашей прогулки в сопровождении мистера Грея я, кажется, еще только раз ходила пешком и тогда уже заподозрила (хотя никому ничего не сказала), что для меня не прошел даром смелый соскок с верхней ступеньки перелаза, который я по неосторожности совершила во время путешествия от усадьбы мистера Лейтема до Хэнбери-Корта.
С тех пор много воды утекло, и на все воля Божья… Я не стану утомлять вас рассказом о том, какие мысли и чувства овладели мной, когда я поняла, что за жизнь ожидает меня… о том, как часто я поддавалась отчаянию и хотела скорей умереть. Вы сами можете представить, каково это для здоровой, подвижной, деятельной семнадцатилетней девушки, жаждавшей преуспеть в жизни, чтобы, используя свое новое положение, помогать своим братьям и сестрам, – каково в одночасье превратиться в беспомощного инвалида без всякой надежды на исцеление и чувствовать себя лишь обузой. Скажу только одно: даже это великое, беспросветное горе подчас оборачивалось благословением, и главным подарком судьбы была доброта леди Ладлоу, взявшей меня на свое особое попечение. Теперь, на склоне лет, когда я целыми днями лежу совсем одна, прикованная к постели, мысли о ней согревают мне душу!
Миссис Медликотт оказалась превосходной сиделкой, и я навеки благодарна ее светлой памяти. Однако там, где требовался не просто уход, ей бывало нелегко со мной. Я подолгу не могла унять горькие слезы – боялась, что мне придется уехать домой, и спрашивала себя, что же будет, ведь моим домашним и без калеки несладко живется… К этому страху примешивались другие, от них гудела голова, но далеко не все свои тревоги я могла откровенно высказать миссис Медликотт. Она не знала иного способа утешить меня, кроме как незамедлительно принести мне что-нибудь «вкусненькое» или «питательное», искренне полагая, что чашка подогретого желе из телячьих копыт есть наилучшее средство от любых невзгод.
– Вот, милая, покушайте, – приговаривала она. – Полно вам горевать по тому, чего уже не исправишь.
Вероятно, убедившись наконец в бесполезности самого расчудесного съестного, она признала свое поражение. Однажды я, хромая, сошла вниз, чтобы увидеться с доктором, которого провели в гостиную миссис Медликотт – комнату, сплошь уставленную буфетами со всевозможными припасами и сластями (благодаря ее неустанным трудам в доме всегда были лакомства, хотя сама она к ним не притрагивалась), – а когда возвращалась к себе, сославшись на необходимость разобрать свои вещи, но с тайным намерением проплакать остаток дня, меня на полпути перехватил Джон Футмен, посланный миледи сообщить мне, что я должна сейчас же явиться в ее «будуар» – приватную гостиную, расположенную, как я уже говорила, описывая свой приезд в Хэнбери, в самом конце длинной анфилады. С того дня я туда больше не заходила. Когда миледи звала нас почитать ей вслух, она садилась в своей «тихой» комнатке, или кабинете, позади которого и находился ее будуар. Должно быть, лица высокого звания не чувствуют потребности в том, что столь ценится нами, нижестоящими, – я говорю о возможности уединиться. Мне кажется, в личных покоях миледи не было помещения с одной-единственной дверью – каждое имело по меньшей мере две, а некоторые три или четыре. Отчасти это объяснялось необходимостью держать под рукой прислужниц: при спальне – горничную Адамс, а при будуаре и кабинете – миссис Медликотт, которой предписано было сидеть в боковой комнате, примыкавшей к будуару миледи (с противоположной стороны к нему примыкала общая гостиная), и являться к госпоже по первому ее зову.
Чтобы яснее представить себе устройство дома, нарисуйте мысленно большой квадрат и разделите его чертой пополам. На одном конце черты будет парадный вход с главным холлом; на другом – задний вход с террасы, торцом упирающейся в старую крепостную стену из серого камня с низкой массивной дверью, некогда служившей потайным ходом; за стеной располагаются службы и хозяйственный двор. Люди, приходившие к миледи по делам, обыкновенно пользовались задним входом. Для самой миледи это был кратчайший путь в сад из ее личных покоев: ей всего только нужно было пройти через комнату миссис Медликотт в малый холл, выйти на террасу, протянувшуюся до угла дома, повернуть направо и по широкой лестнице с низкими ступенями спуститься в прелестный сад с убегавшими вдаль лужайками, веселыми цветниками, торжественными лаврами и прочими декоративными кустами, пышно-зелеными или усыпанными соцветиями; еще дальше высились деревья – тут раскидистые вязы, там ажурные лиственницы, чьи нижние ветви почти касались земли. Все это великолепие было оправлено, так сказать, в темную раму лесов. В годы правления королевы Анны[32] старый замок хотели перестроить, но на полную модернизацию денег не хватило, поэтому новыми высокими окнами обзавелись только парадные покои, включая анфиладу гостиных и комнаты с видом на террасу и сад; ко времени моего приезда в Хэнбери даже новые окна успели состариться – летом и зимой их обвивали одревесневшие побеги ползучей розы, жимолости и пираканты.
Но вернемся к тому дню, когда я с трудом доковыляла до покоев миледи, изо всех сил стараясь скрыть, что чуть не плачу от боли. Не знаю, догадалась ли она о моих мучениях. По ее словам, она послала за мной, желая навести порядок в ящиках своего бюро, для чего ей нужна помощница. Миледи попросила меня – словно я делала ей одолжение – поудобнее устроиться в глубоком мягком кресле возле окна. (К моему приходу все было уже приготовлено – и скамейка под ноги, и столик у подлокотника.) Возможно, вы удивитесь, отчего она не предложила мне сесть или лечь на диван. Ответ очень прост: дивана в ее комнате не было, хотя через день или два он там появился. Мне кажется, что и большое мягкое кресло принесли туда нарочно для меня – при нашем первом свидании миледи сидела в другом, я его отлично запомнила: резное, с позолотой, увенчанное графской короной кресло. Однажды, когда миледи не было в комнате, я решила из любопытства посидеть на нем – проверить, сильно ли оно стесняет движения, – и нашла его страшно неудобным. Мое же кресло (которое я позже не только называла, но и считала своим) было до того мягкое и уютное, что тело поистине блаженствовало в нем.